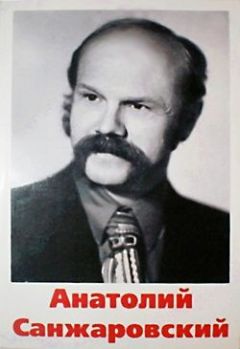гинекологичка. Тебе надо и спринцеваться… Десять капель на пол-литра воды… Ты молодая, крепковатая, не очень запущенная… Я с тобой, шевелилочка, в полгода разделаюсь, как повар с картошкой.
— Уврачуете?… Поднимите? — робко уточнила Катя.
Таисия Викторовна плеснула руками.
— О! Да ты вся выпугалась в смерть. Думаешь, а чего это я тебе навяливаю? Не трусь. Это настойка борца. Две настаивала недели… Пять грамм корня на сто двадцать пять грамм семидесятиградусного спирта. Не бойся, свою настоюшку я уже проверила дома на коте на своём, на собаке Буяне, а вперёд на самой себе. Не баран чихал! Пила по граммульке сперва. Безвкусная. — Таисия Викторовна глянула на флакон на тумбочке. — Никакого яда не слышно. Цветом золотится. Вишь, похожа на коньяк. Коту подпускала в молоко, в суп. На пятой капле забастовал мой Мурчик, не стал лизать молоко. На пятой капле я и сама уловила лёгкий яд… Как-то угнетает, вдавливает в тоску… Но видишь, цела, не рассыпалась вдребезь…
А ночью Таисии Викторовне приснился сон.
Увидела она себя совсем маленькой, гимназисточкой-первоклашкой. В белом платьишке, на головке венок из ромашек. Вприскок бежит счастливая Таиска по лугу ромашковому, несёт перед собой мотылька на раскрытой ладонке, щебечет стишок:
— Расскажи, мотылёк,
Как живёшь ты, дружок,
Как тебе не устать
День-деньской всё летать.
И в тон ей звончато отвечает с ладошки мотылёк:
— Я живу средь лугов
В блеске летнего дня.
Аромат из цветов —
Вот вся пища моя.
Но короток мой день,
Он не более дня.
Будь же добр, человек,
И не трогай меня.
Отслоилось несколько месяцев.
Таисия Викторовна пришла к Маше-татарочке. Всегда мягкая, всегда стеснительная Маша ожгла её холодным, обиженным взглядом.
— Когда раздавали мудрость, в мой мешок ничаво не попал! — чуже посыпала Маша словами. — Пускай я балда осиновая, глупи, но я напрямки искажу… Я, докторица, на тебе пообиделась. Ай как сильно пообиделась, один Аллах знай!..
— Маша! Милуша! Да за что? — Таисия Викторовна бочком подлепилась на кровати к больной. — Давай сядем криво, да поговорим прямо.
— У тебе одна больной — эта! — вскинула Маша мизинец. — Другая больной — эта! — выставила большой палец. — Я эта больной! — Она пошатала мизинец.
— Маша! Не неси греха на душу. У меня все больнуши равны.
— Не все, не все… Ты зенкалки болшой не делай… Я совсема здыхот… [13] Кабы был мне сил, я б отворотился от тебе… К стенке поворотился ба… Одна стенка чесни… Я всю недель рыдал, как буйвол… Мне не был так чижало, когда работал землеройкой, [14] когда таскал потомяча на стройке кирпич на тачка… Машина такая ОСО, две ручки и колесо…
Таисия Викторовна растерянно заозиралась. Где же это я напрокудила? Чего ещё накуролесила? Вроде вина за мной никакая не бегает… Неужели кто на хвосте сплетни нанёс?
Замешательство врача вытягивает из больной огонь злости, и Маша ворчит уже тише, смятенно жалуясь:
— Равны… Кабы был равны, так ба я тожа пел. Игнатиха — вота где раздуй кадило! [15] — по телефон как нарочи [16] уже мал-мала хулигански песняга поёт:
Кабы знала-перезнала,
Где мне замужем бывать,
Пособила бы свекровушке
Капусту поливать.
Я, простячка, такой песняга не пою. Мой песня коротки, мой песня одна: ох-ох-ох. Припевка тожа одна: ой-ой-ой… Бессовесни Игнатиха выхваляется: боль уж малешко. — Маша чуть развела указательный и большой пальцы. — Кушает, как слон. Спит, как медведе в берлоге зимой. Как мы равны? Я не сплю… Ночку кричу, деньский день кричу без перерыв на завтрик, на обед, на вечерю. Совсемушка ничаво кушать не хочу… Высох… паличка… Вес сорок один кило. Хорошая барашка болша тянет… Сила из мне утекла… Совсемко моя жизнуха размахрявилась… К больному даже муха пристаёт… Я такой здыхот, такой здыхот… Шла на Плеханова… Нет, это трамвай шла на Плеханова, а я стояла. Трамвай шла мимо и сдула меня. Ветром от трамвая сдуло! О, как вы, врачея, лечите… Прошу своих: не троньте, не шевелите мне… Мне к земле тянет… К земле… Говорят, жизнь — колесо: то поднимется, то придавит. А мне всю времю давит, давит… Моя мужа на война голова положил… Как хорошо, что до войны я обдетилась. Четыре детишка у мне… Разве я могу помирать? Не могу. Нельзя… запрещается… Давай нараз, золотая докторица, твои золоты капельки! Почё не даёшь?… Я тожа хочу кушать, как слон, спать, как медведе, петь, как бессовесни Игнатиха… Когда подковывают коня, лягушка тожа протягивает лапку…
— И умно делает! — воскликнула Таисия Викторовна, довольная желанным поворотом встречи. — Катящийся камень, Машенька, отшлифуется, лежачий покроется мхом… Дам я тебе свои капельки. Только ты уж не копи на меня зла… Я почему раньше не давала тебе? Корпело сперва твёрдо разведать, как работают мои капельки. Горелось закончить полный курс хоть на одной больной…
Маша протестующе пронесла руку перед своим лицом из стороны в сторону.
— Ух, докторица! Это шайтан в те говорит. Не ты говоришь… Что ж мне ждать-выжидать полный курс? Я ж добыдчивая! Не нонь, так взавтре могу добыть себе могилку! Курс будешь смотреть потомокось. А сначатия [17] давай скорейко сюда твои живые каплюшки… Чего прощей… Давай сейчас, золотунечка… Или чё, обеушками [18] надо их из тебе тащить?
Уже оттуда, из могилы, выхватила Таисия Викторовна пятерых горюх.
В диспансере на них махнули. Безнадёжные! Медицина сделала всё, что могла, что было ей по зубам.
А теперь чего без толку тиранить людей? Чего изводить врачей и себя?
Выпишем домой. «На воздух». «На солнечные ванны».
Их выписывали умирать в кругу семьи.
А они рвались жить, рвались растить детей, рвались к делу и, поникшие, отчаявшиеся, готовые на всё — голому разбой не страшен! — шатнулись к закавырцевской травушке.
Травушка спасла, достала из гроба.
На ком камнем висела инвалидность — сняли. Все вернулись к прежней работе, к будничным семейным заботам, набавив радостных хлопот и самой Таисии Викторовне.
В обычае, она встречала с работы мужа на крыльце, ласково заглядывала в глаза. Ну что, всё в порядке?
А тут нетерпёж поджёг. Выскочила на угол улицы.
— Кока! — со всех ног бросилась к мужу, едва выворотился тот из-за дома. — Кока! Она жива! Это тебе не баран чихал!.. Жива!.. Вот телеграмма!