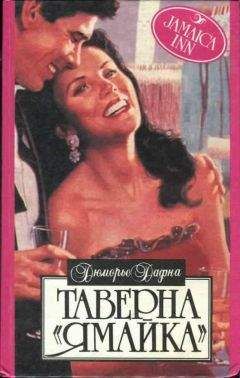хозяин трактира «Ямайка».
Воцарилось долгое молчание. В полутьме кареты Мэри заметила, что мужчина и женщина уставились на нее. Ей вдруг стало зябко и тревожно; она надеялась услышать хоть слово ободрения, но так и не дождалась. Женщина отступила от окна.
— Извините, — медленно проговорила она. — Это, конечно, не мое дело. Спокойной ночи.
Кучер, покраснев, принялся насвистывать, как будто хотел загладить неловкость. Мэри порывисто потянулась и тронула его за руку:
— Скажите мне… Я не обижусь. Моего дядю здесь не любят? Что-нибудь не так?
Кучеру было явно не по себе. Он говорил сердито и избегал ее взгляда:
— У «Ямайки» дурная слава, странные толки ходят. Знаете, как это бывает. Но я не хочу зря вас пугать. Может, это все и неправда.
— Какие толки? — спросила Мэри. — Там что, много пьют? Или мой дядя привечает дурных людей?
Кучер не поддавался.
— Не хочу зря вас пугать, — повторил он, — к тому же я ничего толком не знаю. Только то, что другие говорят. Порядочные люди в «Ямайку» больше не ходят. Вот и все, что мне известно. В прежние времена мы там поили и кормили лошадей и сами заходили промочить горло и перекусить. Но больше мы там не останавливаемся. Мы нахлестываем лошадей, пока не доберемся до перекрестка Пяти Дорог, да и там не задерживаемся.
— Почему люди туда не ходят? В чем причина? — не отставала Мэри.
Кучер медлил с ответом, как будто подыскивая слова.
— Боятся, — произнес он наконец и покачал головой. Больше ничего добиться от него было нельзя. Возможно, он чувствовал, что был слишком резок, или ему стало жаль девушку, но минуту спустя он снова заглянул в окно и заговорил: — Не хотите выпить чашку чая перед отъездом? Дорога длинная, а на пустоши холодно.
Мэри покачала головой. Аппетит у нее пропал. И хотя чай согрел бы ее, девушке не хотелось выходить из кареты и идти в «Ройял», наверняка та женщина станет ее разглядывать, а люди вокруг — перешептываться. Кроме того, внутри Мэри вдруг кто-то трусливо заныл: «Останься в Бодмине, лучше останься в Бодмине». Девушка боялась, что в тепле и уюте гостиницы может уступить. Но она ведь пообещала матери поехать к тете Пейшенс и не должна нарушать данное слово.
— Тогда трогаемся, — сказал кучер. — Сегодня ночью мы будем единственными путниками на всей дороге. Вот вам еще один плед на колени. Когда мы перевалим через гору и выберемся из Бодмина, я погоню лошадей: эта ночь — не для путешествий. Я не успокоюсь, пока не доберусь до Лонстона и не лягу в свою постель. Не много найдется любителей ездить через пустоши зимой, да еще по такой грязи.
Он захлопнул дверь и залез на козлы.
Дилижанс загрохотал вниз по улице, мимо надежных и прочных домов, мимо мерцающих огней, мимо случайных прохожих, которые торопились к ужину домой, сгибаясь под напором ветра и дождя. Сквозь ставни на окнах пробивались узкие полоски теплого света свечей: там, должно быть, в очаге горит огонь, на столе постелена скатерть, женщина с детьми садится за ужин, а мужчина греет руки у веселого пламени. Мэри подумала об улыбчивой крестьянке, своей попутчице; та, наверное, тоже сидит сейчас у себя дома, за столом, рядом с детьми. Какая она была уютная, с румянцем во всю щеку, с грубыми натруженными руками! Какую уверенность и спокойствие излучал ее глубокий голос! И Мэри сочинила для себя маленькую историю о том, как она вышла бы из кареты вслед за попутчицей и попросила бы приютить ее. Конечно, ей бы не отказали — девушка была в этом уверена. Для нее нашлись бы и улыбка, и дружеская рука, и постель. Она стала бы помогать этой женщине, полюбила бы ее, вошла бы в ее жизнь и познакомилась бы с ее близкими.
Но лошади тащились в гору, прочь из города, и в задние окна кареты Мэри видела, как огни Бодмина быстро исчезают один за другим, и вот уже последний отблеск мигнул, задрожал и скрылся. Теперь она осталась один на один с ветром и дождем, с долгими милями бесплодной пустоши, отделявшими ее от конечной цели путешествия.
Мэри подумала, что так, должно быть, чувствует себя корабль, покинув безопасную гавань. Ни одно судно не могло бы казаться себе более одиноким, чем она сейчас, даже когда ветер свистит в снастях и море лижет палубу.
Теперь в экипаже было темно, факел горел тусклым желтым огнем, а от ветра, задувавшего из щели в крыше, пламя колебалось, угрожая поджечь кожаную обивку, поэтому Мэри решила его потушить. Девушка забилась в угол, раскачиваясь из стороны в сторону в такт движению экипажа и думая о том, что раньше и не знала, каким пугающим бывает одиночество. Даже дилижанс, который весь день укачивал ее, как колыбель, теперь, казалось, скрипел и стонал угрожающе. Ветер готов был сорвать крышу, а дождевые струи, ярость которых больше не сдерживали холмы, с новой силой забарабанили в окна. По обе стороны дороги раскинулась бескрайняя равнина. Ни деревьев, ни тропинок, ни одиноких домиков, ни деревушки; только мили и мили холодной пустоши, темной, нехоженой, тянущейся вплоть до невидимого горизонта. Невозможно здесь жить, подумала Мэри, оставаясь при этом как все люди. Даже дети, должно быть, рождаются искореженные, как почерневшие кусты ракитника, согнутые ветром, который не прекращает дуть с востока и запада, с севера и юга. Их души тоже должны быть искореженными, а мысли — злобными, потому что этим людям приходится жить среди болот и гранита, жесткого вереска и осыпающегося камня.
Здешние жители — наверняка потомки странного племени, которое спало под этим черным небом, приникая к голой земле вместо подушки. В них должно остаться что-то от дьявола. Дорога все вилась и вилась по темной и молчаливой равнине, и ни один огонек ни на мгновение не вспыхнул лучом надежды для одинокой путешественницы в дилижансе. Возможно, на протяжении всех долгих двадцати с лишним миль, составляющих расстояние между Бодмином и Лонстоном, не было никакого жилья; возможно, здесь не было даже пастушьего шалаша на пустынной большой дороге; ничего, кроме одной-единственной мрачной вехи — трактира «Ямайка».
Мэри перестала ориентироваться во времени и пространстве, — возможно, они проехали уже сотню миль, а время, наверное, приближалось к полуночи. Теперь она цеплялась за безопасность экипажа, — по крайней мере, здесь ей было хоть что-то знакомо. Мэри села сюда еще утром, а это было так давно. Каким бы чудовищным кошмаром ни казалась эта бесконечная поездка, все-таки Мэри защищали четыре стены и