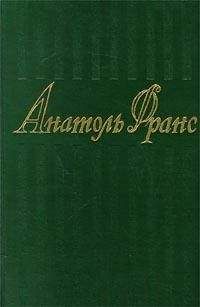В ответ на это монах распахнул на себе одежду, взятую у Никия, и, открыв власяницу, сказал:
— Я Пафнутий, антинойский настоятель, и пришел я из священной пустыни. Рука, которая вывела Авраама из Халдеи и Лота из Содома[61], отторгнула меня от всего мирского. Для людей я уже перестал существовать. Но лицо твое явилось мне среди песков, в моем Иерусалиме, и я узнал, что ты погрязла в пороках и что в тебе таится смерть. И вот я стою пред тобою, женщина, как перед гробом и говорю тебе: «Таис, восстань!»
При словах: «Пафнутий, монах, настоятель» — Таис побледнела от ужаса. И в тот же миг она, сложив руки, плача и стеная, с распущенными волосами, припала к стопам святого:
— Не причиняй мне зла! Зачем ты пришел? Что тебе от меня надо? Не причиняй мне зла. Я знаю, что святые пустынники ненавидят женщин, которые, как я, созданы, чтобы обольщать. Я боюсь, что ты ненавидишь меня и хочешь причинить мне вред. Полно! Я и так верю, что ты всемогущ… Но знай, Пафнутий, не следует ни презирать, ни проклинать меня. Я никогда не смеялась над обетом бедности, который ты дал, как смеются многие из окружающих меня. Поэтому и ты не считай преступлением мое богатство. Я красива и искусна в играх. Я не сама выбирала свое ремесло и свою красоту. Я была создана для того, чем я занимаюсь. Я рождена пленять мужчин. Ты сам только что говорил, что любишь меня. Не пользуйся же своей ученостью мне во вред. Не произноси заклинаний, которые уничтожат мою красоту или обратят меня в соляной столб. Не пугай меня! Я и без того уже трепещу! Не лишай меня жизни! Я так боюсь смерти!
Он знаком велел ей подняться и сказал:
— Успокойся, дитя. Я не обижу тебя хулой и презрением. Я пришел к тебе от того, кто, присев у колодца, испил воды из кувшина, поданного ему самаритянкой[62], от того, кто за трапезой в доме Симона принял благовония, которые принесла ему Мария. Я и сам не безгрешен, и не я первый брошу в тебя камень. Нередко я дурно пользовался щедротами, дарованными мне господом. Не гнев, а сострадание взяло меня за руку, чтобы привести сюда. Я не лгал, приветствуя тебя словами любви, ибо вожатый мой — сердечное рвение. Я горю огнем милосердия, и если бы твои глаза, привыкшие к грубым плотским зрелищам, могли проникать в сокровенную сущность вещей, я предстал бы тебе как ветвь, отломленная от неопалимой купины[63], которую господь некогда явил на горе Моисею, дабы он постиг, что такое истинная любовь — та любовь, которая горит в нас, но не сжигает и не только не оставляет после себя пепла и жалкого праха, но навеки пропитывает душу благоуханием и усладой.
— Я верю тебе, монах, и уже не боюсь, что ты сглазишь меня или причинишь мне вред. Мне не раз доводилось слышать о фиваидских отшельниках. Много чудесного рассказывают о жизни Антония и Павла. Твое имя мне тоже знакомо, и я слыхала, будто ты еще в молодых годах был равен добродетелью самым престарелым пустынникам. Едва увидев тебя и даже еще не зная, кто ты такой, я почувствовала, что ты человек необыкновенный. Скажи мне, в силах ли ты сделать для меня то, чего не могли совершить ни жрецы Изиды, ни служители Гермеса и божественной Юноны, ни халдейские прорицатели, ни вавилонские маги? Монах! Раз ты меня любишь, можешь ты сделать так, чтобы я не умерла?
— Женщина! Тот, кто хочет жить, будет жить. Беги от гнусных наслаждений, в которых ты гибнешь навеки. Из рук демонов, готовых ввергнуть тебя в адское пламя, вырви тело, которое сам господь создал из праха земного и одухотворил своим дыханием. Ты изнемогаешь от усталости, так приди же и освежись в благодатном источнике одиночества; приди и утоли жажду из родников, таящихся в пустыне и вздымающих свои струи до самых небес. Душа, объятая тоской! Приди и завладей тем, чего ты желала! Сердце, взыскующее радости, спеши насладиться радостями истинными: нищетой, самоотречением, забвением самой себя; предайся всем существом в лоно господне. Противница Христа, приди к нему — и ты станешь его возлюбленной. Приди, томящаяся, и ты скажешь: «Я обрела любовь».
Тем временем Таис, казалось, смотрела куда-то вдаль.
— Монах, — спросила она, — если я отрекусь от земных радостей и покаюсь, правда ли, что я воскресну на небе и сохраню нетленным свое тело во всей его красе?
— Таис, я несу тебе жизнь вечную. Верь мне, ибо то, о чем я благовещу, — истина.
— А кто мне поручится, что это истина?
— Давид и пророки, Писание и чудеса, которые ты увидишь воочию.
— Мне хотелось бы тебе верить, монах. Ибо, сознаюсь тебе, я не нашла счастья в мире. Удел мой прекраснее удела царицы, и, однако, жизнь принесла мне много огорчений, много печали, я безмерно устала. Все женщины завидуют моей судьбе, а мне иной раз случается завидовать участи беззубой старухи, которая в дни моего детства торговала медовыми лепешками у городских ворот. Мне часто-часто приходит в голову мысль, что только нищие добры, счастливы, благословенны и что великая радость — жить в бедности и смирении. Монах, ты возмутил глубины моей души и вызвал на ее поверхность то, что дремало на самом дне. Увы, кому же верить? И как быть? И что такое жизнь?
Пока она говорила, Пафнутий преобразился: лицо его озарилось неземной радостью.
— Слушай, — сказал он. — Я вошел в твой дом не один. Другой сопутствует мне, другой, стоящий здесь, возле меня. Его ты не можешь видеть, потому что глаза твои еще недостойны его созерцать, но скоро ты его увидишь во всем его неизъяснимом великолепии и скажешь: «Он один достоин любви». Вот и сейчас, Таис, если бы он не приложил ласковую руку к моим глазам, я, пожалуй, впал бы в грех вместе с тобою, ибо сам по себе я слаб и беспомощен. Но он спас нас обоих; доброта его так же беспредельна, как и его могущество, и имя ему — Спаситель. О пришествии его возвестили миру Давид и Сивилла[64], ему еще в колыбели поклонялись пастухи и волхвы, потом его распяли фарисеи, погребли благочестивые женщины, его учение проповедовали апостолы, восславили мученики. И вот, узнав, что ты страшишься смерти, он грядет к тебе, о женщина, чтобы избавить тебя от нее. Не правда ли, возлюбленный Иисусе, ты являешься мне в этот миг, как явился людям земли галилейской в те чудесные дни, когда звезды, спустившись к тебе с небес, настолько приблизились к земле, что невинные младенцы, играя на руках матерей, на кровлях вифлеемских, могли их доставать ручонками? Не правда ли, возлюбленный Иисусе, ты сейчас с нами и являешь мне воочию свое драгоценное тело? Не правда ли, вот лик твой, а слеза, стекающая по твоей щеке, — настоящая слеза? Да, ангел небесного правосудия примет эту слезу, и она станет выкупом за душу Таис. Не правда ли, ты здесь, возлюбленный Иисусе? Иисусе, сладчайшие уста твои приоткрываются. Говори же, говори, я внемлю тебе. А ты, Таис, счастливица, внимай тому, что говорит тебе сам Спаситель. Ибо это не я, а он вещает тебе. Он говорит: «Я долго искал тебя, о заблудшая моя овечка! Наконец я тебя нашел. Не уходи от меня больше. Дай мне взять тебя на руки, бедняжка, и я отнесу тебя в небесную овчарню. Приди, моя Таис, приди, моя избранница, приди и плачь вместе со мною».
И Пафнутий бросился на колени; глаза его горели восторгом. Тут Таис увидела на лице праведника отсвет живого Христа.
— О невозвратные дни моего детства! — воскликнула она, рыдая. — О добрый мой отец Ахмес, добрый святой Феодор, зачем не умерла я под покровом твоего белого плаща, когда ты нес меня при первых лучах зари, только что омытую водою крещения!
Пафнутий устремился к ней, восклицая:
— Ты крещена? О божественная премудрость! О провидение! О боже всеблагой! Теперь я понимаю, что за сила влекла меня к тебе! Теперь я знаю, почему ты была мне так дорога и казалась столь прекрасной. Это сила таинства крещения извлекла меня из-под сени господней, под которой я жил, дабы я отыскал тебя там, где смердит мерзость мирская. Нет сомнения, что крохотная капля, одна-единственная капля воды, омывшей твое тело, упала на мое чело. Приди, возлюбленная сестра, и прими от брата твоего лобзание мира.
И монах губами коснулся чела куртизанки.
Потом он умолк, предоставив говорить самому богу, и теперь в гроте Нимф слышались только рыдания Таис, которым вторило журчание родника.
Она плакала, не утирая слез; тем временем пришли две черные рабыни с одеждами, благовониями и гирляндами в руках.
— А ведь сейчас не время плакать, — промолвила Таис, силясь улыбнуться. — От слез краснеют глаза и тускнеет румянец. Сегодня я ужинаю в кругу друзей и хочу быть красивой, потому что там будут женщины, а они со злорадством подметят на моем лице следы усталости. Рабыни пришли, чтобы одеть меня. Уйди отсюда, отец мой, и не мешай им. Они ловкие и умелые и обошлись мне очень дорого. Посмотри вон на ту, у которой широкие золотые запястья и на редкость белые зубы. Я перехватила ее у жены проконсула.