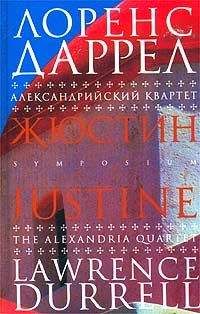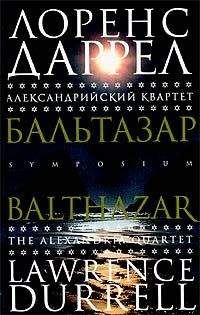На перекрестке дорог они принесли жертву Гераклу (и единым духом зарезали двоих проводников, просто на всякий случай); но с того самого дня все пошло наперекосяк. Втайне они знали: им никогда не дойти до Города, не взять его. О боги! Пусть никогда не повторится зимняя стоянка в горах. Отмороженные носы и пальцы! Налеты по ночам! В памяти его памяти до сих пор сохранился скрипучий и чавкающий одновременно звук солдатских сандалий о снег — всю зиму! Враги в тех краях носили на головах лисьи шкуры, эдакие островерхие шапки на разбойничьих рожах, и длинные одежды из шкур, закрывающие ноги. Они атаковали молча и, казалось, срослись, как искривленный здешний кустарник, с глубокими трещинами ущелий и захватывающими дух перевалами великого водораздела.
На марше память становится фабрикой грез, а общие лишения и тяготы сколачивают из грез общие мысли. Он знал, что вон тот отрешенный солдатик думает о розе, найденной в ее постели в день Игр. Идущий с ним рядом никак не может отвязаться от воспоминаний о человеке с рваным ухом. Кособокий софист, коего лишь нужда заставила пойти в солдаты, во время величайших битв скучал, как ночной горшок на симпозиуме. А толстый, очень толстый человек, на всю жизнь сохранивший странный запах младенческого тела, шутник, над чьими остротами авангард всю дорогу покатывался со смеху. Он думал о новом египетском средстве для удаления волос, о знаменитых своей мягкостью кроватях с торговой маркой «Геракл», о белых голубях с подрезанными крыльями, порхающих вокруг пиршественного стола. Всю жизнь у дверей борделя его встречали раскатами смеха и бросали в воздух тапочки — ура! Кое-кто думал об удовольствиях не столь общепринятых — о волосах, припорошенных свинцовыми белилами, или о мальчиках, шагающих нагишом, по двое в ряд, на заре в школу Властителя Арф, сквозь падающий снег, густой, как похлебка. На вульгарных сельских Дионисиях несли огромный кожаный фаллос сквозь бурю непристойного хохота, но посвященный брал ритуальную щепоть соли и фаллос, и воцарялось трепетное молчание. Их грезы множились в его душе, и, едва заслышав невнятные их голоса, он открывал своему разуму сокровищницу памяти — жестом, по-королевски щедрым, как будто вскрывал вену.
Странное чувство поднялось в нем, когда он, переборов едва не захлестнувшую его приливную волну памяти, сел рядом с теплым телом Жюстин, испещренный пятнами света осенней луны: он ощутил свое физическое тело, вытесняющее тонкую ядовитую материю грез одной лишь силой веса и плотности. Балътазар подвинулся, уступая ему место, не переставая тихо говорить с его женой. (Они мрачно допили вино и выплеснули остатки себе на доспехи. Командиры только что сказали: им ни за что не пробиться, не выйти к Городу.) И вспомнив необычайно ясно, как Жюстин, едва успев высвободиться из-под его тела, садилась, скрестив ноги, на кровати и раскладывала старшие Арканы Таро — колода всегда лежала на полке между книгами, — славно пытаясь вычислить вероятную степень счастья, оставшегося им на двоих после злого последнего погружения в ледяные воды подземного потока страсти, потока, не желавшего подчиняться ей и не утолявшего жажды. («Души, раздираемые зовом плоти, — сказал однажды Бальтазар, — не могут обрести покоя, покуда старость и упадок сил не объяснят им наконец: молчание и тишина им не враждебны».)
Был ли диссонанс, воцарившийся в их судьбах, мерилом страстей, перешедших по наследству от Города, от века? «О Господи, — едва не произнес он вслух, — что бы нам не уехать из этого города, Жюстин, поискать иных небес, не затененных призраками потерь и неприкаянности?» Строки старого поэта пришли ему на ум, опустились тяжко, как нога на педаль пианино, и зазвучали, закипели отпущенными на свободу струнами, густым туманом звуков обволакивая хрупкую надежду, едва пробудившуюся было от затяжного сна.
«Все дело в том, — сказал он еле слышно, сам себе, прикоснувшись ладонью ко лбу, чтобы проверить, нет ли жара, — что женщина, которую я любил, удовлетворяла меня целиком и полностью, не делаясь оттого счастливее либо несчастнее». Он задумался над виденным когда-то сном, странным образом отраженным реальностью. Он бил Жюстин, бил долго и страшно, пока не заболела рука и трость не переломилась пополам. Во сне, конечно. Однако, проснувшись, он ощутил в руке боль. Он закатал рукав пижамы — рука распухла. Чему верить, если реальность передразнивает воображение, кривляясь и обезьянничая?
Тогда же, без сомнения, он понял окончательно: страдание, как и любая болезнь, есть острая форма себялюбия, и учение каббалы пришло подобно свежему ветру, чтобы наполнить паруса его презрения к себе. Он слышал отдаленным эхом блуждающие в памяти Города слова Плотина о необходимости не отказываться, но искать; не бегство от непереносимых мук временной обусловленности, но поиск нового света, нового Светлого Града. «Не спешите выйти за порог, это не дорога для ног. Загляните в себя, уйдите в себя и смотрите». И вот здесь-то он был бессилен, так как знал: никогда и ничего подобного у него не выйдет.
Я вспоминаю события тех дней и не могу не удивляться тому, сколь мало все эти внутренние пертурбации сказывались на полированной поверхности внешних форм его жизни — даже для близко знавших его. Не к чему было придраться — разве что легкое ощущение пустоты, отсутствия мелкой привычной детали, — как если бы знакомый мотив играли вдалеке, чуть изменив тональность. Та же осень дала начало и длинной череде приемов, вопиюще роскошных, — ничего подобного доселе не позволяли себе даже самые богатые семьи города. В особняке теперь никогда не бывало пусто. Огромная кухня, куда мы частенько забирались на ночь глядя, придя с концерта или из театра, чтобы сварить себе пару яиц или вскипятить стакан молока, — пребывавшая в пыли и запустении, — была в одночасье оккупирована полчищами угодливых вороватых поваров в хирургически чистых хламидах и припорошенных мукою колпаках, и гарнизон сей, судя по всему, окопался здесь надолго. Комнаты наверху, высокая лестница, галереи и залы, отзывавшиеся прежде лишь скорбному бою часов, заплетенные паутинками тихого тиканья, перешли отныне во власть круглосуточных патрулей черных слуг, чьи движения были не менее царственны, чем величавое скольжение лебедя, несущего под мышкой важный законопроект. Их белоснежное белье, благоухающее портновским утюгом, было безупречно — свободные одеяния подхвачены алым кушаком с золотою пряжкой в форме черепашьей головы: своеобразный личный герб Нессима. Мягкие дельфиньи глаза влажно искрятся из-под обязательных алых цветочных горшков на головах, обезьяньи лапы затянуты белым шелком перчаток. Они были беззвучны, как смерть.
Если бы он столь явно не переплюнул величайшие фигуры египетского света роскошью своих приемов, можно было бы заподозрить его в стремлении потягаться с ними в широте вкусов. Стены особняка овевала то прохлада похожих на листья папоротника пассажей струнных квартетов, то раскаленные вихри саксофонов, стенающих в ночи, словно обманутые мужья.
Изящные продолговатые приемные покои были дополнены, изрыты бессчетными нишами и уголками для интимных бесед в самых неожиданных местах; количество сидячих мест едва ли не удвоилось против обычного, и так уже, на мой взгляд, чрезмерного, и порою до двух-трех сотен гостей собиралось на тщательнейшим образом продуманные и совершенно бессмысленные званые обеды — чтобы подивиться на хозяина дома, с головою ушедшего в созерцание лежащей перед ним на пустом блюде розы. Но рассеянность его не вызывала раздражения, потому как, если и случалась в общей светской беседе неудобная пауза, он заполнял ее обворожительнейшей из улыбок, и все присутствующие замирали вдруг в изумлении и отрешенности, подобно энтомологу, поднявшему машинально перевернутый стакан и обнаружившему под ним некое членистоногое чудо, чье научное название безнадежно затерялось в его многотомной памяти.
Что еще добавить? Легкая экстравагантность в одежде едва ли бросалась в глаза, если речь шла о человеке, слишком богатом, чтобы носить старые фланелевые брюки и пальто из твида. Теперь же, в ослепительно элегантном костюме из искусственного шелка, с широким алым кушаком, он казался именно тем, кем должен был быть всегда, — самым богатым и самым красивым из городских банкиров, этих воистину найденышей судьбы. Люди удовлетворенно перешептывались: наконец-то он стал самим собой. Именно так должен жить человек с его положением и средствами. Одни лишь дипломаты унюхали за неожиданным всплеском расточительности некие подводные токи, скрытые мотивы, может быть, даже заговор против короля и зачастили к нему в гостиную с букетами заученных любезностей. За масками лиц, ленивых или фатоватых, ощутимо тикало любопытство, профессиональный азарт: докопаться во что бы то ни стало до истинных побуждений и скрытых планов хозяина дома — а как же иначе, ведь даже сам король бывал теперь у Нессима запросто.