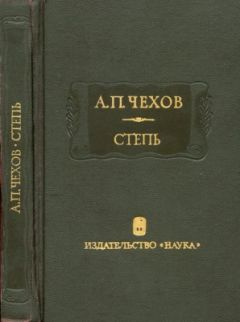Когда Потебня говорил, что образ ходит по людям, как сказуемое в поисках своих подлежащих, когда Чехов заметил: «Не мысль рождает образ; наоборот, живые образы рождают мысль», — оба они подразумевали то, что позднее швейцарский философ и психолог К.-Г. Юнг (1875-1961) назовет архетипом.98
Здесь нет нужды входить в подробности: достаточно сказать, как понимается в отношении к чеховской «Степи» термин «архетип». Лучше всего пояснить это, сославшись на страницу воспоминаний о М. Зощенко, разобранную недавно А.Д. Синявским. Это хороший образец применения отвлеченной философской терминологии к живой литературе:
«Как-то зашел разговор о чрезвычайно популярном на Западе, введенном Юнгом, понятии «архетип»… Если его перевести на обыденный язык… то нужно прийти к выводу, что на уровне подсознательного… все люди наполнены архаическим, существующим еще со времен среднего палеолита психическим слоем, порождавшим когда-то мифы, а сейчас — художественные произведения. Я не могу теперь точно воспроизвести мысли Зощенко, но они поразили меня своим изяществом. Зощенко считал, что писатель должен описывать в человеке не только личное, но и «родовое», то, что в его психике отложила история…»99 Вот характерные примеры первообразов — архетипов — в тексте «Степи»:
«Его сонный мозг совсем отказался от обыкновенных мыслей, туманился и удерживал одни только сказочные, фантастические образы, которые имеют то удобство, что как-то сами собой, без всяких хлопот со стороны думающего, зарождаются в мозгу и сами — стоит только хорошенько встряхнуть головой — исчезают бесследно…»; «широкие тени ходят по равнине, как облака по небу, а в непонятной дали, если долго всматриваться в нее, высятся и громоздятся друг на друга туманные, причудливые образы…»
Сам по себе архетип («первообраз») не предлагает читателю никакого «готового» содержания, никакой житейской морали, ни даже особого смысла; он скорее «ищет» в читателе свое содержание, подобно тому как магнит «ищет» в пустой породе металл, — и находит его, если, конечно, он есть в породе. Архетип в тексте — это всего лишь слово, часто одно-единственное, или даже всего лишь звучание слова, способное настроить нас на нужный лад и дать этому настроению форму.
Чехов совершенно ясно представлял себе — не только как художник, но как врач, знавший биологию и генетику, что образы такого ранга наследственно передаются из рода в род от бесконечно далеких предков, как об этом и сказано в рассказе «Мечты» (1886): «Сотские рисуют себе картины вольной жизни, какою они никогда не жили; смутно ли припоминают они образы давно слышанного, или же представления о вольной жизни достались им в наследство вместе с плотью и кровью от далеких вольных предков, Бог знает!» (С., 5, 402).
Архетипы связаны с определенными словами или сочетаниями слов, им свойственными или присущими. В этом смысле можно говорить о свойствах слов и словосочетаний. Например, заглавному слову чеховской повести — «степь» — не соответствуют никакие современные значения, поскольку невозможно ни создать, ни даже вообразить себе некую «новую» степь, степь-новостройку; те пустоши, которые возникают в итоге экологических катастроф, так и называются — «пустоши», «пустыри»… Но историчными (точнее, архаичными) будут все образы и все слова, которые останутся в нашей памяти от детского или школьного чтения, от лично пережитого за наш скоротечный век; степь — это «печенеги», «половцы», курганы, каменные бабы, коршуны, музейные экспонаты; это «Слово о полку Игореве», «Поучение Владимира Мономаха»: «Како небо устроено, како ли солнце, како ли луна, како ли звезды, и тма, и свет…»
Столь же архаично, далее, и словосочетание «вишневый сад», поскольку оно олицетворяет память об отошедших поколениях, о тех, кто готовил почву, выращивал саженцы и потом высаживал и выхаживал их, оберегал от утренников, от сглаза, от зайцев, объедающих кору: «Неужели с каждой вишни в саду, с каждого листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа, неужели вы не слышите голосов…» и т.д. (С., 13, 227).
Самый образ дерева по-своему летописен, поскольку дерево ведет счет годам, наслаивая год за годом кольца вокруг сердцевины. Дерево, и быть может вишневое дерево в особенности, олицетворяет и символизирует прошлое; в сущности, нельзя по-русски сказать так, как говорит чеховская Аня: «Мы насадим новый сад» (конечно, молодой, а не новый), поскольку «новый сад» — это какое-то нелепое «новое прошлое», столь же невозможное и ненужное, как «новая степь»…
Но, кроме того, «сад» — одно из очень немногих, быть может даже единственное в своем роде, слово, не имеющее в нашем языке никаких отрицательных или сомнительных значений; это, по-видимому, абсолютный положительный смысловой полюс русского словаря. И напротив, такие словосочетания, как «ударить по дереву топором», «подрубить корни», выражают высшую степень безнравственности и безрассудства.
«Тот, кто говорит архетипами, — писал Юнг, — подымает изображаемое им из мира единократного и преходящего в сферу вечного; притом же и свою личную судьбу он возвышает до всечеловеческой судьбы и через это высвобождает также и в нас благотворные силы, которые во все времена давали человечеству возможность выдерживать все беды и пережидать даже самую долгую ночь. В этом — тайна воздействия искусства».100
Истинным архетипом в чеховской повести является сама степь — великая родоначальница нашей истории, пристанище всех наших былей и небылиц. «Дед, великаны!» — кричит Егорушка в грозовую ночь, и голос его тонет в раскатах грома. Нет, не сказки няньки-степнячки, не картинки из книжки — эти образы от рождения существуют в подсознании чеховского мальчика как его душевное наследство и приходят ему на ум «сами собою», как только оказываются в своей стихии: «и как бы эти фигуры были к лицу степи и дороге, если бы они существовали!»
Чехов вернется к ним еще раз в самом конце жизни, подтверждая их родовую значительность:
«Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты, и, живя тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами…» («Вишневый сад», 1904. С., 13, 224).
И.Г. Птушкина В.М. КОНАШЕВИЧ — ИЛЛЮСТРАТОР ЧЕХОВА
Художник-график Владимир Михайлович Конашевич (1888-1963) известен более всего как замечательный иллюстратор детской книги; его художественный мир входит в сознание современного человека с самых ранних лет жизни вместе с книгами, когда ребенок сам еще не читает, а только слышит слово. Между тем Конашевич, окончивший Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где он учился в 1908-1913 гг. у К.А. Коровина, С.В. Малютина, Л.О. Пастернака, обратил на себя внимание как талантливый иллюстратор русской классической литературы (он иллюстрировал произведения Пушкина, Тургенева, Достоевского и др.). Приметным явлением стали его рисунки к сборнику «Стихотворения А.А. Фета» (Пб., «Аквилон», 1922), для которого он сам «отобрал стихи и нарисовал к ним рисунки». Художник Д.И. Митрохин отметил в своих воспоминаниях (1964) это издание, как первое, где у Конашевича «счастливо слились иллюстрации с текстом».101
Обращение к иллюстрированию произведений Чехова было для В.М. Конашевича вполне естественным и органичным.102 И дело не только в том, что Чехов был одним из его самых любимых писателей. В письме К.И. Чуковскому Конашевич как-то отметил (октябрь 1943 г.): «Чехова я очень люблю <…> в литературе есть четыре человечка, которые почему-то мне ближе других. Это Диккенс, Толстой, Чехов и Ан. Франс» (С. 307). Воспоминания художника «О себе и своем деле» пронизаны глубоким знанием произведений Чехова (автор предисловия к книге Ю.А. Молок, в частности, свидетельствует, что художник «помнил наизусть целые страницы» из Чехова). Конашевич постоянно обращается к чеховским персонажам: под его пером они порою оживают, дополняя портретные характеристики действующих лиц его воспоминаний («Драма», «Событие» и др.), или существуя как типы («Человек в футляре»). Несомненно, художественное воздействие поэтического мира Чехова сказалось и в описании Конашевичем «уфимских степей», по которым ему довелось проезжать подростком. «Степь — без куста, без деревца — стелется однообразным пространством, замыкаясь к горизонту цепью невысоких холмов…» (С. 91); «…мне давно уже все мерещатся уфимские степи. Густой-густой воздух, от которого все клонит ко сну; ветерок, пришедший издалека, — так и чувствуешь, что он дальний-дальний, тихо вея, перебирает засохшие травы, обнажая совсем выжженные солнцем полянки, по чернозему которых ходят <…> непуганные кронштепы» (С. 90; см. также с. 94-95).
Главное, чем близок Чехов художнику Конашевичу, это стилевая манера писателя. «Убежден, что в искусстве как раз то только ценно и действенно, что выражено сжато и кратко, — утверждал художник. — В своем искусстве <…> я всегда стремлюсь к такому уплотнению. И в литературе я люблю такую же предельную сжатость. За это именно я особенно чту Чехова, у которого сама форма так скупа и лаконична, что тупому взгляду, не видящему за нею богатства содержания, вся постройка кажется легковесной» (С. 126). Может показаться, считает Конашевич, что лаконизм Чехова, особенно в начертании пейзажа, порою мешает его восприятию. Так произошло у самого художника, когда он читал, например, рассказ «Поцелуй»: «Там с обычным для Чехова лаконизмом начертан пейзаж <…> Прочел, перечел, еще раз прочел — и не почувствовал пейзажа совсем, не возникает перед глазами, и все тут! Я же знаю, что Чехов никогда не говорит пустых или неточных слов и не пишет о том, чего не видел и не чувствовал! Виноват, значит, я!» Конашевич попытался представить себе этот пейзаж написанным Левитаном, «все сразу стало на свое место: пейзаж возник передо мной полнокровный, ясный» (С. 28-29). Задача художника — проникнуть в художественный мир писателя, подняться до его высоты.