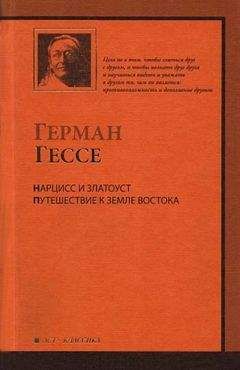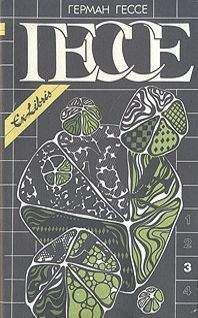Так как он не мог заснуть, то в конце концов встал и вышел из хижины.
Было прохладно, ветер слегка играл в березах. В темноте ходил он взад и вперед, потом сет на камень и сидел, погруженный в раздумья и глубокую печаль. Ему было жаль Виктора, ему было жаль того, кого он убил сегодня, ему было жаль утраченной невинности и детскости своей души. Для того ли ушел он из монастыря, оставил Нарцисса, обидел мастера Никлауса и отказался от прекрасной Лизбет, чтобы поселиться здесь в роще, подстерегать заблудший скот и убить там на камнях этого бедного парня? Был ли во всем этом смысл, стоило ли это переживать? Сердце сжималось от бессмыслицы и презрения к самому себе. Он опустился на землю, лег, вытянувшись, на спину и устремил взор в бледные ночные облака, долго лежал он в оцепенении, а мысли проходили перед ним; он не знал, смотрит ли он в облака на небе или в печальный мир собственной души. Вдруг в момент, когда он засыпал на камне, появилось, сверкнув будто зарница в бегущих облаках, огромное лицо, лицо Евы, взгляд был тяжелый и хмурый, но глаза вдруг широко раскрылись, огромные глаза, полные сладострастия и кровожадности. Гольдмунд проспал, пока роса не намочила его.
На другой день Лене разболелась. Ее оставили лежать, дела было много: Роберт повстречал утром в лесочке двух овец, которые вскоре убежали от него.
Он зашел за Гольдмундом, больше полудня охотились они и поймали одну из овец; очень усталые, они вернулись вечером. Лене чувствовала себя очень плохо. Гольдмунд осмотрел ее и ощупал и нашел опухоли. Он скрыл это, но Роберт заподозрил недоброе, узнав, что Лене все еще больна, и не остался в хижине. Он поищет-де место для сна под открытым небом и возьмет с собой козу, ее ведь тоже можно заразить.
– Так убирайся к черту, – закричал на него Гольдмунд, рассвирепев, – я не желаю тебя видеть. – Козу он схватил и взял к себе за перегородку. Без звука Роберт исчез без козы, у него было неспокойно на душе от страха, страха перед чумой, страха перед Гольдмундом, страха перед одиночеством и ночью. Он улегся неподалеку от хижины.
– Гольдмунд, сказал Лене: – Я останусь с тобой, не беспокойся. Ты скоро поправишься.
Она покачала головой.
– Смотри, дорогой, чтобы тебе не подцепить болезнь, ты не подходи больше ко мне так близко. Не старайся утешать меня. Я должна умереть, и для меня лучше умереть, чем увидеть однажды, что твоя постель пуста и ты оставил меня. Каждое утро я думала об этом и боялась. Нет. я лучше умру.
К утру ей стало совсем плохо. Гольдмунд время от времени давал ей глоток воды, проспав в промежутке с час. Теперь при утреннем свете он отчетливо увидел на ее лице близкую смерть, оно стало уже таким вялым и неспособным к сопротивлению. Он вышел ненадолго из хижины глотнуть свежего воздуха и посмотреть на небо. Несколько кривых стволов сосен на опушке леса уже золотились на солнце, свеж и сладок был воздух, далекие холмы еще терялись в утренней дымке. Он немного прошелся, разминая уставшие члены и глубоко дыша. Прекрасен был мир в это печальное утро. Итак, скоро опять в путь. Настало время прощания.
Из леса его окликнул Роберт. Не лучше ли ей? Если это не чума, он останется. Пусть Гольдмунд не сердится на него, он пас это время овцу.
– Иди к чертям вместе со своей овцой! – крикнул ему Гольдмунд в ответ. – Лене умирает, и я заразился.
Последнее было ложь; он сказал это, чтобы отделаться от него. Хотя Роберт и был добродушным парнем, Гольдмунду он надоел, он казался ему слишком трусливым и ничтожным, слишком не подходил для него в это время, полное судьбоносности и потрясения. Роберт исчез и больше не появлялся.
Вставало яркое солнце.
Когда он вернулся к Лене, она спала. Он тоже заснул еще раз, во сне он увидел свою бывшую лошадь Блесса и прекрасный монастырский каштан; на душе у него было так, как будто из бесконечной дали и безысходности он опять смотрит на милую, утраченную родину, и, когда он проснулся, слезы текли по его бородатым щекам. Он услышал, что Лене говорит что-то тихим голосом, ему показалось, что она зовет его, и он приподнялся на постели; по она говорила, ни к кому не обращаясь, лепетала просто так ласковые слова, ругательные, смеялась немного, потом начала тяжело вздыхать и всхлипывать, постепенно опять затихая. Гольдмунд встал, наклонился над ее уже искаженным лицом, с горьким любопытством следил он глазами за ее чертами, так страшно обезображенными и опустошенными палящим дыханием смерти. Милая Лене, взывало его сердце, милое доброе дитя, и ты оставляешь меня? С тебя уже довольно?
Охотно он убежал бы прочь. В путь, в путь, шагать, дышать, уставать, видеть новые картины, это подействовало бы благотворно на него, возможно, смягчило бы его глубокую удрученность. Но он не мог, нельзя было оставлять дитя одиноко умирать здесь. Едва решался он каждые два часа на какое-то время выходить, чтобы подышать свежим воздухом. Так как Лене уже не принимала молока, он сам напился его досыта, больше есть было нечего. Козу он тоже несколько раз выводил поесть травы, попить и подвигаться. Потом он опять стоял у постели Лене, нашептывая нежности, неотрывно смотрел ей в лицо, безутешно, но внимательно глядя, как она умирает. Она была в сознании, время от времени засыпала, а когда просыпалась, открывала глаза лишь наполовину, веки были утомлены и слабы. На его глазах молодая женщина с каждым часом становилась старше, на свежей молодой шее покоилось быстро вянущее лицо старухи. Она лишь изредка произносила какое-нибудь слово, говорила «Гольдмунд» или «любимый», пытаясь увлажнить языком распухшие посиневшие губы. Тогда он давал ей несколько капель воды.
На следующую ночь она умерла. Умерла не жалуясь, прошла лишь короткая судорога, потом остановилось дыхание, и по коже пробежала дрожь, при виде этого волна поднялась у него в сердце, и ему вспомнились умирающие рыбы, которых он часто видел и жалел на рыбном базаре: именно так угасали они, с судорогой и тихой горестной дрожью, пробегавшей по их коже и уносившей с собой блеск и жизнь. Он постоял на коленях возле Лене еще какое-то время, потом вышел наружу и сел в заросли вереска. Вспомнив о козе, он вошел еще раз и вывел ее, она, немного покружив, легла на землю. Он лег рядом, положив голову на ее бок, и проспал до рассвета. Теперь он в последний раз вошел в хижину, за плетеную стену посмотреть на лицо бедной умершей. Ему было неприятно оставлять ее лежать здесь. Он вышел и набрал полные охапки хвороста и сухого валежника, бросил в хижину, высек огонь и поджег. Из хижины он ничего не взял с собой, кроме огнива. В момент вспыхнула сухая дроковая стена. Он стоял снаружи и смотрел с порозовевшим от огня лицом, пока всю крышу не охватило пламя и не упала первая балка. В страхе, жалобно блея, прыгала коза. Неплохо было бы убить животное и часть прокоптить и съесть, чтобы силы были для путешествия. Но он был не в состоянии, он отогнал козу в поле и пошел прочь. Вплоть до леса его преследовал дым от пожара. Никогда еще он не был так безутешен, начиная странствие.
И все же то, что предстояло ему, оказалось хуже, чем можно было ожидать. Началось с первых же дворов и деревень и продолжалось, усугубляясь, по мере того, как он двигался дальше. Местность, вся обширная страна была объята смертью, охвачена ужасом, страхом и помрачением душ, и самое скверное было не в вымерших домах, не в изголодавшихся на цепи или разлагавшихся дворовых собаках, не в лежавших непохороненных мертвых, не в нищенствующих детях, не в общих могилах возле городов. Самым скверным были живые, которые под тяжестью ужасов и страха смерти, казалось, потеряли глаза и души.
Странные и жуткие веши приходилось слышать и видеть страннику повсюду.
Родители оставляли детей, мужья жен, если те заболевали. Прислужники чумы и больничные работники действовали как палачи, они грабили опустевшие дома, по своему произволу то оставляли трупы непогребенными, то стаскивали с кроватей на трупные телеги умирающих, прежде чем они испустят дух. Запуганные беглецы одиноко блуждали в округе, одичалые, избегая любого соприкосновения с людьми, гонимые страхом смерти. Другие объединялись в подогреваемой страхом смерти жажде жизни, устраивали кутежи, справляли праздники, танцуя и любя, но и тут смерть правила бал. Бездомные, печалясь и проклиная, с безумными глазами сидели третьи перед кладбищами у своих опустевших домов. И что хуже всего – каждый искал для этого невыносимого бедствия козла отпущения, каждый утверждал, что знает нечестивцев, которые виноваты в чуме и являются ее злонамеренными зачинщиками. Сатанисты, стало быть, злорадно старались распространять смерть, извлекая из чумных трупов яд, мазали им стены и ручки дверей, отравляли колодцы и скот. На кого падало подозрение в этих мерзостях, тот погибал, если не бывал предупрежден и не мог бежать; его приговаривали к смерти либо юридически, либо сама чернь. Кроме того, богатые обвиняли бедных, и наоборот, или это были евреи, или чужеземцы, или врачи. В одном городе Гольдмунд с похолодевшим сердцем наблюдал, как горел целый еврейский переулок, дом к дому, вокруг стояла орущая толпа, и кричащих беглецов загоняли обратно в огонь оружием. В безумии страха и ожесточения везде убивали, жгли, мучили невинных. С яростью и отвращением смотрел на все это Гольдмунд, мир казался разрушенным и отравленным, казалось, на земле не было больше ни радости, ни невинности, ни любви. Часто убегал он на бурные празднества жизнерадостных, всюду звучала скрипка смерти, он вскоре научился различать ее звуки, нередко он сам принимал участие в отчаянных попойках, играл при этом на лютне или танцевал при свете смоляных факелов лихорадящими ночами.