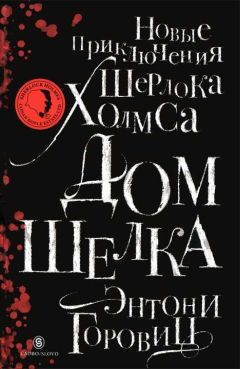— Не по средствам? О боже! Нет, ты действительно смешон! Да что мы, нищие, чтобы отказывать себе в самом необходимом? Насколько мне известно, я принесла тебе восемьдесят тысяч приданого!..
— Ох, уж эти твои восемьдесят тысяч!
— Да, да! И нечего говорить о них с пренебрежением… Тебе это было не важно… ты женился на мне по любви — пусть так. Но ты, по-моему, меня вообще уже больше не любишь. Ты перечишь самым скромным моим желаниям. Ребенку не нужно особого человека!.. О карете, которая необходима нам как хлеб насущный, давно уже и речи нет… Почему же ты настаиваешь на жизни за городом, если нам не по средствам держать экипаж и ездить в общество, как все люди? Почему ты недоволен, когда я бываю в городе? По-твоему, нам надо раз и навсегда зарыться в этой дыре и не видеть ни одного человека! Ты нелюдим!
Господин Грюнлих подлил себе вина, снял хрустальный колпак и, не удостаивая ее ответа, принялся за сыр.
— Не пойму, любишь ты меня или нет? — продолжала Тони. — Твое молчание до того неучтиво, что я считаю себя вправе напомнить тебе одну сцену у нас в ландшафтной… Тогда ты вел себя несколько иначе!.. Ты с самых первых дней редко-редко проводил со мной вечер, да и то уткнувшись в газету. Но поначалу ты хоть до известной степени считался с моими желаниями, а теперь и этого нет. Ты мной пренебрегаешь…
— А ты? Ты разоряешь меня.
— Я?.. Я тебя разоряю?
— Да. Ты разоряешь меня своей леностью, желанием все делать чужими руками, неразумными издержками.
— О, пожалуйста, не попрекай меня моим хорошим воспитанием! В родительском доме мне не приходилось и пальцем шевельнуть. Теперь — и мне это нелегко далось — я свыклась с обязанностями хозяйки, не я вправе требовать, чтобы ты не отказывал мне в необходимом. Мой отец богатый человек: ему и в голову не могло прийти, что у меня будет недостаток в прислуге…
— Ну, так погоди нанимать еще одну, пока нам не будет проку от его богатства.
— Ты, кажется, желаешь смерти моему отцу? С тебя станется!.. Я только сказала, что мы состоятельные люди и я пришла к тебе не с пустыми руками!..
Господин Грюнлих, не переставая жевать, улыбнулся; улыбнулся с видом превосходства, скорбно и молчаливо. Это смутило Тони.
— Грюнлих, — уже спокойнее сказала она, — ты улыбаешься, говоря о наших средствах… Может быть, я ошибаюсь относительно нашего положения? У тебя плохо идут дела? Может быть, ты…
В это мгновенье кто-то коротко и отрывисто постучал в дверь из коридора, и на пороге появился г-н Кессельмейер.
Оставив в передней пальто и шляпу, г-н Кессельмейер в качестве друга дома вошел без доклада и остановился в дверях. Внешность его точно соответствовала описанию, сделанному в свое время Тони в письме к матери. Ни тонкий, ни толстый, но коренастый, он был одет в черный, уже немного залоснившийся сюртук, в такие же немного коротковатые и узкие брюки и белый жилет, на котором длинная и тонкая часовая цепочка перепутывалась с тремя шнурками от пенсне. Седые, коротко подстриженные и остроконечные бакенбарды почти целиком закрывали его румяные щеки, оставляя открытыми только подбородок и рот — маленький, подвижный, смешной, с двумя зубами на всю нижнюю челюсть. Когда г-н Кессельмейер, засунув руки в карманы панталон, остановился в дверях, с видом рассеянным, таинственным и отсутствующим, эти два его желтых конусообразных зуба уперлись в верхнюю губу. Черно-белый пух на его голове легонько трепыхался, хотя в комнате не замечалось ни малейшего дуновения.
Наконец он вытащил руки из карманов, наклонился — при этом нижняя губа его отвисла — и с трудом высвободил один шнурок из клубка на своей груди. Затем, скорчив нелепейшую гримасу, одним взмахом насадил пенсне на нос, окинул взором чету Грюнлих и проговорил: «Ага!»
Господин Кессельмейер то и дело прибегал к этому междометию, а потому необходимо сказать, что бесконечные «ага» произносились им всякий раз по-другому и достаточно своеобразно. Он умел восклицать «ага», сморщив нос и закинув голову, с разверстым ртом и махая в воздухе руками, или, напротив, в нос, протяжно, с металлической ноткой в голосе, так что это напоминало гуденье китайского гонга. Иногда он пренебрегал разнообразием оттенков и просто бормотал «ага» быстро, ласковой скороговоркой, что, пожалуй, выходило еще смешнее, ибо печальное «ага» звучало в его устах как-то гнусаво и уныло. На сей раз пресловутое междометие, сопровожденное судорожным кивком головы, было произнесено так приветливо и весело, что явно должно было свидетельствовать об отличном расположении духа г-на Кессельмейера. Но тут-то и надо было держать ухо востро, ибо чем коварнее были замыслы почтенного банкира, тем веселее он казался. Когда г-н Кессельмейер подпрыгивал на ходу, непрестанно бормоча «ага», насаживал пенсне на нос и вновь его ронял, махал руками, неумолчно болтал, словно одержимый приступом шутовства, можно было с уверенностью сказать, что душу его снедает злоба. Г-н Грюнлих, прищурившись, взглянул на него с нескрываемой опаской.
— Так рано? — удивился он.
— Ага, — ответил г-н Кессельмейер и помахал в воздухе своей красной, сморщенной ручкой, словно желая сказать: потерпи немного, сейчас будет тебе сюрприз!.. — Мне нужно поговорить с вами, почтеннейший, и к тому же безотлагательно! — И до чего же смешно он это сказал! Каждое слово он сначала как-то перекатывал во рту и потом выпаливал его со всей силой, на которую были способны его беззубые подвижные челюсти. «Р» раскатилось так, словно небо у него было смазано жиром.
Взгляд г-на Грюнлиха сделался еще тревожнее.
— Входите же, господин Кессельмейер, — сказала Тони. — Садитесь. Как мило, что вы пришли… Вы, кстати, будете у нас третейским судьей. Мы только что повздорили с Грюнлихом… Ну, скажите: нужна трехлетнему ребенку бонна или нет? Говорите прямо.
Но г-н Кессельмейер попросту не заметил ее. Он сел, постарался как можно шире раскрыть свой крохотный ротик, сморщил нос, почесал указательным пальцем в бакенбарде, отчего возник нестерпимо нервирующий звук, и с сияющим радостью лицом уставился поверх пенсне на нарядно сервированный стол, на серебряную сухарницу, на этикетку бутылки.
— Грюнлих утверждает, — продолжала Тони, — что я его разоряю.
Тут г-н Кессельмейер взглянул сначала на нее, потом на г-на Грюнлиха и, наконец, разразился гомерическим хохотом.
— Вы разоряете его?.. — восклицал он. — Вы, вы, его разо… Так, значит, вы его разоряете? О, господи ты боже мой, вот уж разодолжил! Забавно! В высшей степени забавно! — Засим последовал целый поток разнообразнейших «ага».
Господин Грюнлих ерзал на стуле и явно нервничал. Он то засовывал за воротничок длинный указательный палец, то судорожно оглаживал свои золотисто-желтые бакенбарды.
— Кессельмейер, — сказал он наконец. — Успокойтесь-ка! Вы что, с ума сошли? Перестаньте хохотать! Налить вам вина? Или, может быть, хотите сигару? Что, собственно, вас так смешит?
— Что меня смешит?.. Да, да! Налейте мне вина и сигару тоже дайте… Что меня смешит? Итак, значит, вы считаете, что ваша супруга вас разоряет?
— У нее непомерная склонность к роскоши, — досадливо отвечал г-н Грюнлих.
Тони отнюдь этого не оспаривала. Откинувшись на стуле и небрежно играя лентами своего пеньюара, она отвечала, задорно оттопырив верхнюю губку:
— Да, такая уж я. Ничего не поделаешь. Это у меня от мамы, — все Крегеры спокон веков питают склонность к роскоши.
С таким же спокойствием она объявила бы себя легкомысленной, вспыльчивой, мстительной. Резко выраженный родовой инстинкт лишал ее представления о свободной воле и моральной независимости и заставлял с фаталистическим равнодушием отмечать свойства своего характера, не пытаясь исправлять их или хотя бы здраво оценивать. Она безотчетно полагала, что любое ее свойство — плохое или хорошее — является наследственным, традиционным в ее семье, а следовательно, высоко достойным и бесспорно заслуживающим уважения.
Господин Грюнлих окончил свой завтрак, и аромат двух сигар смешался с теплым запахом горящих дров.
— Курится у вас, Кессельмейер? — осведомился хозяин. — А то возьмите другую. Я вам налью еще вина… Итак, вы хотели поговорить со мной? Что-нибудь спешное?.. Важное дело? Мы потом вместе поедем в город… Вам не кажется, что здесь жарковато?.. В курительной у нас прохладнее…
Но в ответ на все эти заигрывания г-н Кессельмейер только помахивал в воздухе рукой, как бы говоря: напрасно стараешься, голубчик!
Наконец все поднялись из-за стола. Тони осталась в столовой, чтобы присмотреть за горничной, убиравшей посуду, а г-н Грюнлих повел своего гостя через будуар в курительную. Г-н Грюнлих понуро шел впереди, рассеянно теребя левую бакенбарду; г-н Кессельмейер, загребая воздух руками, следовал за ним, пока оба не скрылись в курительной комнате.