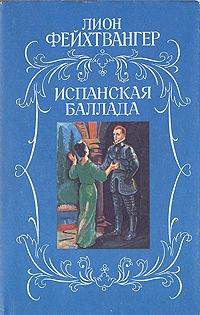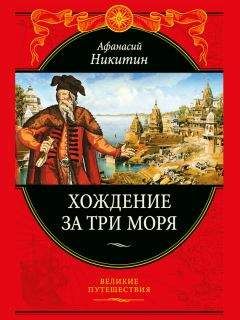— С прискорбием заметил я, любезный господин и брат мой, что ты снова принялся помечать наши письма тем же годом, что папская канцелярия. Я неоднократно высказывал тебе свою волю сохранить за испанской церковью её своеобразие. Я отнюдь не желаю отказываться от прав, которые старше, нежели права самого папы. Недаром же мой предшественник, первый епископ Толедский, был посвящен в сан апостолом Петром.
Дон Родриго понимал, почему его начальник с таким жаром возобновляет старый спор о летосчислении. Не пускаясь в распри, он примирительно заметил:
— Поверь мне, досточтимый отец, господь непременно дарует мне милость спасти душу короля, нашего государя.
Альфонсо остановился перед мезузой, свитком с заповедями иудейской веры, который Ракель повесила на косяке двери, ведущей в её покои в Галиане.
— И ты еще многое собираешься менять здесь? — спросил он с легкой, незлобивой насмешкой.
— Разумеется, — весело ответила Ракель. — Когда дом окончен, остается только умирать, — процитировала она арабскую поговорку.
— Ну что ж, лишний амулет не помешает, — согласился Альфонсо.
Ракель ничего не ответила. Она не рассердилась на него за то, что в заповедях её веры он увидел всего лишь амулет. Как мог он понять единого, незримого бога Израилева, когда сам преклонял колена перед изображениями трех богов? Он был только рыцарем и солдатом, и благоговейный трепет перед всевышним был ему чужд. Это она давно уже знала, но, как ни странно, это не унижало его в её глазах. Как ни пагубно и безбожно было его рыцарство, оно согревало ей сердце.
Альфонсо, в свою очередь, старался осознать все то, о чем до тех пор у него было лишь смутное представление. Пусть его жизнь здесь, в Галиане, недостойна рыцаря, пусть это измена его королевскому долгу — он готов заплатить за свое счастье такой изменой. Быть с любимой стало смыслом его жизни. Он страдал, расставаясь с нею даже на несколько минут. Никогда не будет он в силах с ней расстаться; это он чувствовал, понимал, и это было ужасно, и в этом было блаженство.
Ракель, как и он, не знала ничего, кроме своего счастья. Она жила здесь не ради какой-то «высшей цели». Она жила здесь потому, что ей так хотелось, потому, что она была здесь счастлива. И Альфонсо, христианин, рыцарь, варвар, был ей мил таков, как он есть. Он был король и подчинялся одному-единственному закону — своему внутреннему королевскому голосу, и этот голос всегда был прав, даже когда повелевал ему ослепить часового, заснувшего на своем посту, или сровнять с землей и посыпать солью неприятельский город.
С ним и за него она гордилась тем, что раньше вызвало бы у неё насмешливую улыбку. Он рассказывал ей о свирепых готских и норманнских королях — своих предках, и она восхищалась ими вместе с ним. Он расхваливал грубость и сочность своей вульгарной латыни, своего кастильского, и она прилежно училась ему.
Он радовался, как ребенок, когда она употребляла слова и обороты его солдатского кастильского языка. В благодарность он согласился надевать восточный халат на те часы, когда Ракель, сидя у фонтана, рассказывала ему сказки. Но когда она вкрадчиво попросила его сбрить бороду, потому что ей хочется видеть его лицо без растительности, он грубо отказался.
— Так ходят только жонглеры, скоморохи, — возмущенно заявил он. Она не рассердилась, а только засмеялась. Между ними не могло быть отчуждения, они были одно, как и в первые дни.
Но вот настала пятница, и Ракель собралась к отцу. На этот раз Альфонсо не стал её отговаривать; он только сидел, надувшись, как обиженное дитя.
Ракель покинула его с таким же тяжелым сердцем, как и в первый раз. Но уже по пути к кастильо Ибн Эзра ей страстно захотелось видеть отца, она почувствовала, как нуждается в том, чтобы он помог ей, вселил в неё новые силы. Близ него она и в самом деле становилась сильнее.
В Галиане она была лишь частицей Альфонсо, а не самой собой; она восторгалась цельной натурой Альфонсо и казалась себе хуже его из-за своей раздвоенности. А в присутствии отца она знала, что её раздвоенность — это заслуга, это хоть и спорное, но все же счастье.
Альфонсо на этот раз не поехал в Толедо; ему не хотелось опять видеть вокруг себя молчаливо-укоризненные лица своих советников. Он предпочел претерпеть муку ожидания Ракели в Галиане.
В её отсутствие ему было тягостно чуждое убранство дома. Мягкие ковры, цветистые завитушки и украшения, плещущие фонтаны угнетали его.
Он остановился перед вьющимся по фризу еврейским изречением. При своей превосходной памяти он точно запомнил слова, которые Ракель перевела ему. Еврейский бог обещал в них своему избранному народу вечную милость и торжество над всеми другими народами. Альфонсо страстно тосковал о Ракели и вместе с тем, глядя на дерзкую надпись, думал: неспроста я до такой степени страдаю из-за нее, так уж созданы евреи, что с соизволения Божия дьявол чаще всего избирает их своим орудием. «Змея за пазухой, огниво в рукаве», — вдруг припомнилось ему. Ракель тоже помимо собственной воли ведьма, и он околдован ею.
Альфонсо вышел в сад, бросился на траву под деревом. Позвал Белардо, чтобы поболтать с ним, и напрямик спросил его:
— Что ты, собственно, думаешь о моей жизни здесь, в Галиане?
Всем своим круглым, заплывшим жиром лицом Белардо выразил глуповатое недоумение.
— Что я думаю, государь, того мне не то что сказать, даже и думать не годится, — вымолвил он наконец.
— Все равно, говори, — нетерпеливо приказал Альфонсо.
— Раз уж мне велено говорить, — ответил Белардо, — вот что я скажу: этот великий из великих грехов можно себе позволить, только когда и сам ты великий из великих.
— Говори все! — потребовал Альфонсо.
— Жалко также, — вполне освоившись, продолжал садовник, — что из-за этого всем нам, да и тебе самому, государь, придется распрощаться с нашей сердечной усладой и главным делом нашей жизни.
— Говори, не стесняйся, — ободрил его король.
— Последние месяцы мне частенько вспоминается покойный мой дед, тараторил Белардо. — Когда на него находило такое расположение, он все рассказывал про свой великий священный поход. Вот как оно было, государь. Попросил, значит, тогдашний византийский император Алексий святого отца о помощи для Святой земли и отписал ему, какое поношение терпит там христианство, и как у священных изображений Спасителя поотбиты руки, ноги, уши и носы, и как язычники-мухаммедане только и знают, что творят злое насилье над христианскими девами, а матерям тем временем велят петь, а потом учиняют то же над матерями и требуют, чтобы дочери распевали непотребные романсы. И еще писал византийский император, что, конечно, и война эта — священная, и вдобавок еще у язычников можно поживиться золотом и всякими сокровищами, да и женщины на Востоке куда соблазнительнее, чем на Западе. Все христиане расчувствовались и распалились гневом, прочитавши это письмо, и покойник дедушка вместе со всеми. Он нашил себе на грудь крест, купил поношенный кожаный колет и кожаный шлем и с милостивого дозволения вашего блаженной памяти прадедушки пустился в дальний путь. Даже и вообразить себе не могу, как у него, у старика, сил на это хватило; правда, в те поры он был помоложе. Но покуда он туда доплелся, все уже успели расхватать добычу — и золото и женщин, ну и полегли, конечно, многие. Дедушке так и не довелось повоевать, и домой он вернулся ни с чем. А все-таки лучше этого у него ничего в жизни не было, ведь он молился у того камня, на котором сидел сам Спаситель, и пил ту воду, которую пил сам Спаситель, и окунал тело в святую реку Иордан. Когда на деда находило такое расположение, он обо всем об этом рассказывал, и глаза у него тогда бывали, как у блаженного.
Белардо умолк, забывшись в воспоминаниях.
— Ну? — произнес Альфонсо.
— Ох, хорошо было бы и нашему брату сподобиться такой богоугодной забавы, — произнес Белардо с глуповато-мечтательной миной. — А что дурного случится с нами, если мы пойдем войной на окаянных мухаммедан? Коли повезет — захватим денег и женщин, коли не повезет — попадем прямехонько в рай.
— Словом, — заключил дон Альфонсо, — ты считаешь нечестивым, что я пребываю здесь в сладострастной неге?
— Избави меня господь от таких богомерзких мыслей против твоего величества, — запротестовал Белардо.
Как ни дурашливы были речи бойкого садовника, они задели Альфонсо за живое.
Значит, все считают, что он пренебрегает своим долгом рыцаря и короля, что он «изнежился», как Геркулес и Антоний из героев древности и как еврейский рыцарь Самсон со своей Далилой. В доме ему стало невмочь, он все время проводил в саду и даже спал под открытым небом, и сон его был тревожен.
Но как только Ракель возвратилась, прежние чары вновь овладели им. И мусульманские обычаи уже не отталкивали его. Жизнь в Галиане прекрасна, лучшей он никогда не знал. Он засмеялся по-юношески, изумляясь своему счастью. Веселый задор вселился в него. Пусть он изнежился, — значит, ему так нравится, значит, он на это идет, и нечего тут трубить ему в уши о грехе и раскаянии.