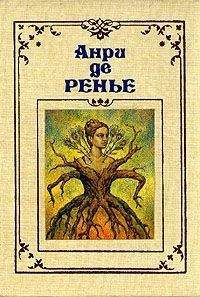— Добряк обезумел от счастья, — сказал, смеясь, г-н де Клерсилли. — Он бежит к костюмеру, оттуда мчится к парикмахерше, чтобы идти потом к парфюмеру. Я его только что встретил; он нес в носовом платке лучшие из своих медалей, которые он собирался продать, и зеленый картон, где находился убор из цветов для Фаншон.
Г-н де Бершероль осторожно взял щепотку табаку из табакерки, протянутой ему г-ном де Парменилем. Все трое, не прерывая беседы, дошли до конца аллеи. Они повернули обратно и начали сызнова свою прогулку. В тот день в саду было много народа. Люди всех состояний толкали там друг друга локтями; г-н де Клерсилли лорнировал всех направо и налево.
— Ах, — сказал он, — я бьюсь об заклад, что вот идет сам знаменитый господин Лавердон. Какого черта делает он здесь в этот час? Здесь некого причесывать; уж не бегает ли он за женщинами или идет в игорный дом?
Г-н Лавердон подвигался медленно, как подобает важной особе; у него было приятнейшее выражение лица; одет он был в лучшее свое платье.
Г-н де Клерсилли окликнул его:
— Куда это вы направляетесь, мастер Лавердон?
На фамильярность г-на де Клерсилли г-н Лавердон ответил церемонным поклоном.
— К господину де Портебизу, сударь, сделавшему мне честь пригласить меня, и я предоставлю себя в его распоряжение, как предоставил бы себя и в ваше распоряжение, сударь.
— Это бесполезно, — у господина Бершероля нет больше любовниц, которые бы мне нравились. Скажите-ка, Лавердон, есть ли у господина де Портебиза что-нибудь такое, чтобы стоило им заниматься.
— У господина де Портебиза есть все, чего он желает в эту минуту, сударь; он самый модный человек в Париже, и я также бегу к нему, — галантно ответил г-н Лавердон, с достоинством поклонился и исчез за группою из трех девиц, которым г-н де Клерсилли, всем трем сразу, сделал глазки.
Г-н Лавердон направлялся к дому г-на де Портебиза. Он легко поднялся по лестнице и попросил Баска доложить о нем. У лакея был странный вид. Его длинное и желтое лицо было вконец расстроено.
— Войдите, господин Лавердон, — крикнул голос, — а ты останься здесь, негодяй.
И г-н де Портебиз показался в двери.
— Так это ты выкинул эту штуку? Бургундец во всем сознался. Оба вы — отменные мерзавцы. Как негодяи, которых я кормлю, оплачиваю, одеваю! Я тебя прогоню с места, слышишь? Я тебя…
Лицо Баска подергивалось все более и более; оно почернело; из безобразного он превратился в страшного, из страшного — в ужасного, из ужасного — в жалкого.
Баск делал усилия заплакать, но не успел достигнуть этого.
Г-н де Портебиз схватил его за ворот, заставил его перевернуться, пустил его по вестибюлю. Потом он запер дверь, когда парень скатился и упал на пол на четвереньки.
— Вообразите себе, господин Лавердон, что вчера вечером, придя домой, я собирался лечь в постель, как вдруг услышал легкий шум в моем кабинете. Баск и Бургундец уже ушли к себе; я беру свечу, отпираю дверь, тяну к себе и вывожу на середину комнаты, угадайте кого? Госпожу де Мейланк, одетую в плащ с капюшоном и сконфуженную. Судите, Лавердон, о моем изумлении и о моем гневе, когда она рассказывает мне, заливаясь слезами, что ее любовь внушила ей эту хитрость и что она решила дождаться минуты, когда я буду в постели, чтобы пробраться ко мне под одеяло и воспользоваться мраком и минутой. Хуже всего то, что она была красива в таком виде, одетая с заранее обдуманною и умелою небрежностью; но, в самом же деле, человеку в моем положении иметь какую-то госпожу Мейланк, и даже не мимоходом, между двумя дверями, а на всю ночь.
Я попытался заставить ее понять мои доводы, но она упорствовала, так что я вынужден был позвонить Баска и Бургундца и приказал им отвезти домой мою гостью; но оба негодяя удовольствовались тем, что вывели ее из дома и оставили ее там, посреди улицы, одну, без кареты и даже без фонаря…
Освободившись от ее присутствия, я осведомился о том, какие меры она приняла, чтобы проникнуть ко мне. Бургундец заявил, что ее впустил Баск. Он, по всей вероятности, врет, в этом я уверен; но в порядке дел человеческих, чтобы невинный страдал. Я, как вы видели, избил беднягу Баска, который, как я слышу, до сих пор тихонько стонет.
Г-н Лавердон выслушал это со скромною и отеческою улыбкою.
Мнение его о г-не де Портебизе становилось все выше и выше.
— Ах, сударь, это восхитительно, и к тому же это оправдывает мои предсказания. Разве я не твердил: «Этот господин де Портебиз пойдет далеко». И я пророчу вам большую будущность. Любовь ведет к славе. Маршал де Бонфор, который был великим полководцем, вследствие уместности своих поражений и полного порядка своих отступлений, и герцог де Тарденуа, который был видным придворным, оба, по слухам, провели бурную молодость, полную любовных приключений; ваша юность начинается, словно долженствуя сравняться с их молодостью; все заставляет думать, что их последующие судьбы являются предсказанием того, чем может оказаться и ваша будущность.
Не переставая говорить, г-н Лавердон приготовил свои гребешки и пуховки. Г-н де Портебиз сел за свой туалет.
— А самое худшее, Лавердон, то, что эта Мейланк смутила своим досадным появлением тот сладостный образ, который занимал мою мысль. Я мечтал в то время о восхитительнейшей особе, которая когда-либо жила на земле и к которой я пылаю страстью с той минуты, как я ее увидел.
И г-н де Портебиз, погрузив нос в угол из картона, пока г-н Лавердон пудрил его изо всей силы, увидел, как в глубине его, словно волшебством, выделилась танцующая фигура, представшая в отдалении, но столь ясная и столь отчетливая, что сердце его забилось; и свежий и живой образ м-ль Фаншон заставил его забыть улыбку м-ль Дамбервиль и слезы г-жи де Мейланк. Он видел, как они мало-помалу исчезали из его умственного взора, уменьшались, таяли, удалялись. В то же время исчезало и румяное лицо г-на де Бершероля, острый профиль г-на де Пармениля, красная физиономия аббата Юберте, силуэт г-на де Клерсилли, сложение г-на Гаронара, огромная представительная фигура г-на Томаса Тобисона де Тоттенвуда, на миг увиденное им лицо добряка дяди Галандо, в конце концов несчастного человека и который, как с сожалением о нем говорил г-н Лавердон, никогда, по всей вероятности, не причесывался у парикмахера.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГАЛАНДО-РИМЛЯНИН
Из всех дорог, ведущих в Рим, Николай де Галандо, отправляясь в этот город, выбрал самую короткую и самую естественную; поэтому и прибыл он туда без всяких помех 17 мая 1767 года, как раз в ту минуту, когда на церкви Троицы-на-Горе пробило полдень.
Сюда впоследствии ежедневно приходил он проверять свои часы; если циферблат часов на одной из двух башен показывал час по-итальянски, от захода и до захода солнца, то циферблат часов на другой башне показывает время по-французски, по прохождению солнца через меридиан; а г-ну Галандо важно было знать точно, на чем остановилась его праздность, так как он был пунктуален до щепетильности к ней, так же как и к себе. Вне этого он отдавал свое время долгим и неопределенным прогулкам по городу, на первых порах всего охотнее отыскивая высокие места, откуда он мог видеть его сразу, на всем протяжении.
Город представлялся ему, соответственно погоде, то мягким и туманным, окутанным жидким, словно струившимся воздухом, то четким и словно скульптурным, под ясным, прозрачным небом. Соборы, колокольни и компаниллы поднимались из смутной громады домов. Высокие развалины, дикие и обнаженные, словно показывали остов старого Рима и обрисовывали каменный скелет его древнего величия. Г-н де Галандо созерцал, опершись на трость, чтимый город, имя которого впервые прозвучало ему в детстве в тех книгах, которые он читал с добрым аббатом Юберте; потом, крупно шагая в своих башмаках с медными пряжками, он ходил по его прославленной земле, еще не остывшей от остатков его прошлого.
У этих остатков, то полувросших в землю, то всегда поднимавшихся над нею, была различная судьба. Время придумало для них новое употребление; внутри древнего храма поместилась церковь; к подножию его фундамента прислонилась лавочка. Обелиски среди площадей были увенчаны крестом; барельефы, врезанные в стены, связывали их своими скульптурными кусками. Исполинские термы, обрушившись, покрывали своими обломками многие десятины. Гигантский цирк отдавал каменоломам в добычу свои глыбы и пласты. Колонны, по горло засыпанные поднятием почвы, превратились в невысокие тумбы. Землею были закупорены пролеты триумфальных арок. Целые кварталы, некогда густо населенные, обратились не более как в сады. Виноградники покрывали холм на правом берегу Тибра.
Эта зелень была великим очарованием Рима, наряду с его водами, которые водопроводы разносили по резервуарам. Они били вверх бесчисленными фонтанами.