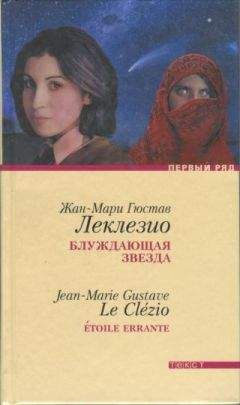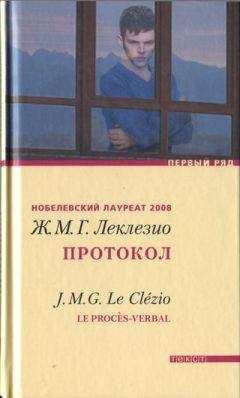Первыми умерли дети, игравшие с дохлыми крысами. Слух об этом разошелся по всему лагерю, потому что их братья и друзья бегали по улицам с дикими воплями, выкрикивая пронзительными голосами ужасные, немыслимые, похожие на имена демонов слова, смысла которых сами не понимали: «Хабуба!.. Кахула!..» Крики детей в неподвижном полуденном воздухе напоминали зловещее воронье карканье. Я вышла на обжигающее солнце и прошла по улицам, не встретив ни единого человека. Все вокруг казалось уснувшим, но повсюду царила смерть. В дальней, северной части, там, где селились сбежавшие от войны богачи из Эль-Куда, Яффы и Хайфы, перед одним из домов собрались люди. Среди них стоял мужчина, одетый, как англичанин, — дантист из Хайфы, — но его костюм был грязным и порванным в нескольких местах. Именно он принимал в лагере иностранных врачей, я видела его с солдатами. Он посмотрел в мою сторону, когда я забежала вперед, желая привлечь внимание мужчины в светлом костюме.
Дантист прикрыл лицо носовым платком. Рядом стояли убитые горем женщины, они рыдали, утирая рот и нос покрывалом. В полутьме комнаты на полу лежало тело юноши. Кожа на его груди и животе, на лице и даже на ладонях была покрыта страшными синюшными пятнами.
Солнце ярко светило в безоблачном небе, окружавшие лагерь каменные холмы колыхались в раскаленном воздухе. Я помню, как медленно шла босиком по пыльным улицам, вслушиваясь в доносившиеся из домов звуки. Я слышала, как бьется мое сердце, вокруг царили тишина и слепящий свет, словно смерть прикоснулась ко всему в этом мире. Люди в домах прятались в полутьме. Я не различала их голосов, но знала, что тут и там были еще дети, женщины и мужчины, заразившиеся чумой. Они метались в горячке и стонали от боли в распухших железах под мышками, на шее и в паху. Я думала об Аамме Хурии и боялась, что роковые отметины уже появились и на ее теле. Меня тошнило. Я не могла заставить себя вернуться в дом и, несмотря на жару, вскарабкалась по каменистому склону холма на самый верх, к могиле старого Наса.
Детей там не было, Баддави тоже не оказалось в шалаше. Никто больше не караулил прибытия грузовика с продовольствием, да возможно, он и вовсе больше не приедет. Чума уничтожит лагерь Нур-Шамс. Очень может быть, что эпидемия охватила всю землю: Аллах решил наказать людей, чтобы они прекратили войну, и повелел дженунам наслать на них чуму. Когда все умрут и песок пустыни будет усеян нашими костями, они вернутся и снова поселятся в своем дворце в райском саду.
Я весь день ждала в тени обожженных солнцем кустарников, сидела, ждала и надеялась неизвестно на что. Возможно, на возвращение Саади. Но он теперь жил рядом с нами и перестал приходить на могилу. Саади исчезал надолго: он охотился на кроликов и куропаток в горах к северу или к востоку от лагеря. В Бедусе, по его рассказам, как и в долине, где прошло его детство, находились развалины дворца дженунов.
Я провела весь день на вершине холма, карауля силуэт мужчины или ребенка, надеясь услышать вдалеке голоса женщин.
Перед заходом солнца я спустилась вниз — ночью появлялись дикие собаки. В доме было темно, но заболела не Аамма, а Румия. Она лежала на полу, на простыне, ее лицо опухло от жара, глаза налились кровью. Дыхание было частым и затрудненным, тело то и дело сотрясала дрожь. Закутанная в голубое покрывало Аамма Хурия неподвижно и молча сидела рядом с ней. Лулу она отдала соседке. Время от времени она опускала полотенце в кувшин с водой и медленно выкручивала его над лицом молодой женщины, как делала я во время родов в овраге. Вода текла по губам, смачивала шею и волосы. Глаза Румии больше не видели. Она ничего не слышала и даже не чувствовала влагу на своих растрескавшихся губах.
Ту ночь Аамма Хурия провела рядом с Румией. В чернильно-черном небе стояла полная и прекрасная в своем гордом одиночестве луна. Чтобы не слышать звука тяжелого дыхания, я спала на улице, завернувшись в одеяло и положив голову на ступеньку. На рассвете появился Саади. Он принес куропаток и дикие финики. Он стоял у двери дома, опираясь на посох, и казался ужасно высоким и невозможно худым. Его темное лицо блестело, как у бронзовой статуи.
Саади вошел в дом, а я осталась у порога, прислушиваясь к тишине на улицах лагеря. Потом он вышел, сделал несколько шагов и без сил уселся у двери. Мертвые птицы и финики рассыпались по земле. Я вошла в дом. Аамма Хурия сидела на том же самом месте с тряпкой в руке. В тени я увидела тело Румии, ее запрокинутое лицо, закрытые глаза и рассыпавшиеся по плечам влажные светлые волосы. Казалось, она спит. Я попыталась вспомнить, когда она появилась в лагере, и мне показалось, что это случилось давно, очень давно. В комнате воцарилась тишина — тишина смерти, но мои глаза оставались сухими. Эта смерть была все равно что смерть в бою, она заледенила все вокруг. Зло не коснулось лица Румии, оно было очень бледным, с темными кругами вокруг глаз. Никогда не забуду это лицо. Я неподвижно стояла у двери, и Аамма Хурия подняла на меня тяжелый взгляд. «Уходи, — сказала она, и я услышала в ее голосе ненависть. — Беги отсюда. Бери ребенка и беги. Мы все умрем». Она легла на пол рядом с Румией и закрыла глаза, как будто собиралась уснуть. Я поцеловала ее в голову и ушла.
В доме соседки я собрала сверток с хлебом, мукой, спичками, солью и банками сухого молока «Клим» для Лулы, положила тетради, в которых описывала события своей жизни, день за днем. Больше я ничего брать не стала. Саади запасся бутылью с водой. Ребенка я завернула в покрывало и привязала к спине, взяла сверток и вышла на дорогу, по которой ездили грузовики, доставляя в лагерь продовольствие.
Солнце стояло низко над холмами, но горизонт уже начал светлеть. Я обернулась, чтобы бросить прощальный взгляд на лагерь. Саади молча шел рядом. Его взгляд был суровым и печальным. Он обнял меня за плечи и увлек за собой.
* * *
Каждый день они пускались в путь на рассвете и до полудня шли на юг через выжженные солнцем холмы. Когда питание «Клим» закончилось, Неджма сказала, что ребенок умрет, если они не достанут молока. Солдаты входили в Тулькарм. Саади забрался на уступ и просидел там целый день, не двигаясь, как когда-то у могилы старого Наса. У него было такое острое зрение, что он мог разглядеть колючую проволоку, которой был обнесен город, и замаскированные в камнях пулеметные доты. С другой стороны через плодородные поля черной ниткой тянулась железная дорога, а еще дальше в небо поднимались дымы порта Мухалид. Темная гладь моря выглядела нереальной.
Неджма расположилась с Лулой в тени дерева, развела остатки сухого молока и напоила девочку, слушая рассказ Саади о далеком, прекрасном и недостижимом море. Ни о чем другом он говорить не мог. Ребенок снова раскапризничался, и Саади ушел.
Весь остаток дня, всю холодную ночь и весь следующий день Неджма ждала под деревом, отлучаясь только по нужде. У нее оставалось немного подслащенной воды и несколько галет «Мария». Если Саади не вернется, они умрут. Ребенка мучила жажда. Солнце жгло нежную кожу через пеленки и покрывало, губы у девочки распухли и растрескались. Неджма пела ей песенки, чтобы утешить и успокоить, но она забыла почти все слова, так что выходило не слишком хорошо. Она сидела, смотрела в пустоту, слушала дыхание Лулы, и этот звук казался ей странным среди звенящей тишины холмов.
Несколько раз Неджма замечала чьи-то тени, и ее сердце начинало биться сильнее. Она думала, что возвращается Саади, но это были беженцы из Тулькарма. Они направлялись на юг и прошли, не заметив ни девушку, ни хнычущего младенца.
На второй вечер Неджма помолилась, провела ладонью по своему лицу и по личику Лулы, готовясь умереть, и тут появился Саади. Он бесшумно подошел к дереву. «Смотри! — В его голосе звучало нетерпение. Он помог ей подняться. — Идем же, скорее». Неджма увидела козу с козленком — Саади привязал их к кусту — и шумно, по-детски обрадовалась. Она подбежала к животным, и перепуганная коза отпрянула в заросли, а козленок кинулся бежать. Неджма положила ребенка на землю и приблизилась к козе, протягивая ей на ладони соленое печенье. Когда козочка успокоилась, Неджма попыталась ее подоить, но ей не хватило сил. Баддави подоил козу в оловянную миску. Из набухших сосков текло густое пахучее молоко. Неджма наполнила бутылочку и дала Луле. Девочка жадно, на едином дыхании выпила все, до капли, а потом сразу уснула, и Неджма уложила ее под деревом. В миске еще оставалось молоко. Первым напился Саади, следом за ним — Неджма. Теплая, солоноватая, густая жидкость согрела их. «Вкусно». Впервые за долгое время Неджма вновь ощутила надежду. «Теперь мы не умрем». Она произнесла это тихим голосом, для себя самой. Саади посмотрел на нее, но отвечать не стал.
Они устроились спать прямо на земле, положив между собой Лулу. Ночью Неджма слышала, как козленок стучит копытцами по камням, а потом тычется головой в брюхо матери и сосет, жадно причмокивая. На темном небе мерцали звезды. Неджма давно не поднимала голову вверх. На юге звезды были прекрасны и сверкали совсем иначе, не так, как над лагерем.