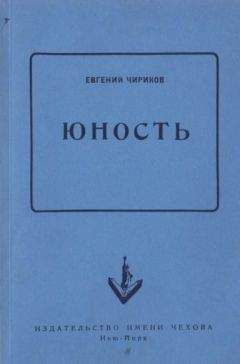— Это не ваше дело!
— Да вы не кричите! Захочу, так и вовсе не пошлю. Никакой тут экстренности нет: никто не помирает. Стало быть, и полежать до завтра может…
— А если помирает?
Надзиратель повернулся и ушел.
— Вы ответите!
Молчание… Только лязгает железо, запирающее мою камеру… Злоба, бессильная злоба, клокочет в груди и нет ей выхода. В диком исступлении я схватываю со стола железный ковш и начинаю им бить в окне стекла. С жалобным звоном летят на пол стеклянные осколки, и этот звон еще более усиливает мое неистовство: я бью стекла второй рамы и кричу:
— Вот вам! вот! вот!..
Свежий воздух полился холодными волнами в камеру, освежил мою голову, и я опомнился. Выбросил на пол ковш и, сев на кровать, в нервном истощении, опустил руки и голову.
— Что такое?..
— Ничего… Рамы выставил… Весна, давно пора выставить, а вы…
— Что же это за безобразие!.. Жалко, смотрителя с помощником нет…
— Я требую прокурора…
В карцер можно и без прокурора… Вот завтра доложу смотрителю…
— Сегодня, а не завтра… Я требую!..
— Вот и спите да мерзните… Сегодня вставлять некому, а переводить в другую камеру без смотрителя мы не имеем права… А если продолжать будете, то и связать инструкция дозволяет…
— Инструкция… Какая инструкция?.. Гм!.. Смешное слово…
— Вам всё смешно… Погодите, не пришлось бы поплакать… Безобразие!
— Да, скверно… Окно не виновато… Идите!.. Не буду… Извините великодушно…
— Извините… Нет уж, пускай смотритель как знает, а я извинять не имею права…
— Ну, наплевать… Уходите с Богом!
Надзиратель крикнул стражника, тот привел Флегонта. Убрали все стекла, очистили рамы, испробовали крепость решетки, отобрали всё твердое и острое, даже ручку с пером, и ушли… Смешно: они боятся, как бы я не покончил с собой… Нашли дурака!.. Я жить хочу, страстно, ненасытно хочу жить, а они…
После сильного нервного возбуждения наступил полный упадок сил. Я с трудом таскал по камере ноги и не мог сжать пальцев в кулак. Растерянная улыбка не сходила с моего лица, дергались губы и веко левого глаза. Пробовал говорить с собою и удивлялся своему голосу: слабый, глухой, не мой голос… Смешно и странно слышать… Валялся в кровати и думал, почему это не звонят в колокола. Словно я разбил не стекла окна, а все колокола в городе. Посмотрел в окно и тут только увидел, что уже стемнело. Как это так незаметно подкралась ночь, такая тихая и ласковая, кроткая и печальная ночь?.. Где-то играет оркестр духовой военной музыки… То тихо, почти не слыхать, то громко, совсем близко. Не поймешь, где. Может быть, в том саду, где мы впервые увидали и полюбили друг друга. Да, конечно там: когда ветер с той стороны затреплет на голове волосы, музыка заиграет громко, всем хором инструментов, а когда ветерок затихает — слышны только басы, барабан, кларнеты. Что там играют такое знакомое-знакомое, от чего щемит сердце? Вальс, грустный вальс. Где и когда я слышал? Почему радостно и тоскливо от этого вальса?..
— Тра-ра-рам, та-та, тарам-та-та-та…
Ах, да!.. Вспомнил: это тот самый вальс, под который я мучился ревностью на вечеринке, глядя на танцующую с распорядителем гордую Зою… Какой милый, родной вальс!..
— Тарам-та-та, та-та, тарам-та-та-а-та-та, та-аа-а-та…
Боже, как это было давно!.. Кажется, что с тех пор прошло больше года, а ведь это было всего четыре месяца тому назад… Сколько утекло воды за эти четыре месяца… Опустил голову на руки и, в приятном полузабытье, слушаю то рождающиеся, то умирающие звуки военного оркестра. Грезится что-то далекое, милое, прошлое, успокаивающее, баюкающее душу лаской… Вот заиграли опять… Что-то заунывное и задушевное… «Лучинушку!»
— Лучи-на, моя лучи-и-нушка да березо-о-овая, ах, что же ты…
Хочется плакать от непонятной грусти о чем-то потерянном. О чем? Не знаю. Не всё ли равно, о чем!.. Холодный ветерок льется на голову, на спину, на руки… Немного холодно, но хорошо. Точно купаешься в Волге в жаркий летний день… Ах, как хорошо на Волге в жаркий летний день! Солнце припекает, как огнем, песок на берегу — горячий, словно нагретый в печке, а вода прохладная. Полежишь голый на горячем песке, а потом — кувырк в воду: сперва дух захватит от резкой перемены, а потом ничего… Только покрякиваешь от удовольствия… А потом прозябнешь, вылезешь и бух в горячий песок, как в печку! И теперь мне то жарко, то холодно, словно купаюсь в Волге и в ее песках. Что это: музыка, или только кажется?.. Нет, музыка смолкла, это в ушах осталось впечатление от музыки и от колокольного трезвона… Как странно: словно вылетевшие из оркестра обрывки музыки всё еще летают над спящим городом и не находят себе пристанища… А всё-таки холодно. Дрожь в теле. А в висках точно бьют стеклянными молоточками; похоже на часы.
Неужели уже светает? Да, вон там бледнеет и зеленеет небо, потухают звезды. На городской башне мелодично бьют часы. Сколько? Три… неужели я пролежал на руках за столом с десяти до трех?.. Озяб, — надо лечь и хорошенько укрыться, с головой. Можно сверху — шубой…
— Ну-ка, милая шуба, выручай: кажется, схватил лихорадку…
Я улегся, не раздеваясь, укрылся одеялом и шубой, поджал ноги и застучал, как голодный волк, зубами…
— Брр!.. Холодно. Ужасно холодно! Надо — с головой… И жарко, и холодно.
Странно: в ушах всё еще звучит грустный вальс…
— Трам-та-та-та, та-тааа… Зоя, идем танцовать вальс!.. Идем, милая!..
…Удивительно: даже ночью не перестают трезвонить в колокола…
Душно и жарко. На кой чорт вы накрыли меня шубой!.. Черти полосатые!.. К чорту шубу!.. Жара смертельная, а они меня еще шубой… Не имеете права. Я потребую прокурора…
— Мама, не вели им покрывать меня шубой… Жарко…
— Тарам-та-та, та-та, тарам-та-та-там-та-ааа…
XXXIV
— Вставайте! Собирайте вещи!..
— Куда? Не хочу… Я хочу спать… Убирайтесь от меня.
— Вас матушка в конторе ждут…
— Мама?.. Ах, да… Мама!.. Я сейчас… У меня ужасно болит голова…
— Собирайте вещи… Флегонт! Собери им вещи…
— Зачем вещи? Это мои вещи…
— На волю, на поруки вас к матушке… Поздравляю…
— На волю?.. Ну, что ж…
— А вы поскорее!.. Это можно бросить?
— Что это?
— Орех в сахаре…
— Нет, нет!.. Отдайте его… Это моя тайна…
— Вещи, ваше благородие, готовы.
— Неси в контору… Пожалуйте! Сюда, сюда!.. Что с вами?..
— Очень болит голова… Сегодня очень холодно?
— Нет, тепло…
— Странно. Вы говорите, на волю?..
— Да. Сюда, в контору…
— Мама!
— Геня! Ты — свободен… Я так рада, милый!.. Скорее уедем из этого проклятого дома… Что с тобой?.. Ты в жару…
— У меня лихорадка, мама…
— Да на тебе нет лица!.. Что с тобой здесь сделали!..
— Ничего, мама… Погоди, я что-то хотел спросить тебя…. Забыл. Очень важное что-то… Ах, да!.. Не вноси покуда денег Калерии…
— Да ты что, голубчик, бредишь, что ли?.. Я внесла уже и поэтому только тебя выпускают на волю…
— Я сперва должен видеть Калерию…
— Калерию? Вот тебе раз!.. Калерия за границей. Зачем тебе понадобилась Калерия?..
— Не знаю, мама… Ничего не знаю… Делайте как хотите. Мне ужасно хочется спать, мама…
— Ты болен… Ах, Господи!.. Что же это такое…
— Вещи, сударыня, на извозчике…
— Ну, уйдем скорее!.. Застегнись хорошенько!..
— Распишитесь в получении сына.
Мы уселись на извозчика и поехали. Звонко трещала пролетка, покачивалась на рессорах, и катилась всё вперед, а я сидел, прислонясь к матери, с закрытыми глазами, и мне казалось, что мы едем назад… Я раскрывал глаза и изумленно смотрел на необычайное зрелище шумливого, торопящегося города… Смотрел, но не испытывал никакой радости, а только одно изумление.
— Ах, мама, как мне хочется спать!.. Скоро ли мы приедем и куда ты везешь меня?
— На пароход.
— Разве уже ходят пароходы?
— Да, сегодня — первый пароход… У тебя лихорадка…
— Ничего… Как приедем на пароход, я лягу в каюте спать и просплю до самой Самары… Ах, как хочется, мама, спать!..
— Надо бы к доктору, да опоздаем на пароход. — Не надо. Пройдет, мама… Заедем на телеграф: я дам телеграмму Зое, — она приедет в Симбирск… и там мы обвенчаемся…
— Решили отложить до осени: твоя невеста должна сперва хорошенько поправиться, да и ты сам… Жених!.. Краше в гроб кладут…
— Кто решил?.. Как смели решать без нас?
— Мы с отцом твоей невесты решили…
— Не ваше дело!.. Стой, извозчик! Я — сию минуту, только дам телеграмму…
— Застегнись! Ах, какое мученье!.. Загорелось жениться…
«Христос Воскресе, Зоя. Я свободен, выезжай Симбирск. Геннадий».
— Готово! Едем!..
— Полковник сказал, что ваше дело кончится к осени… и тебя могут посадить еще месяцев на семь досиживать…