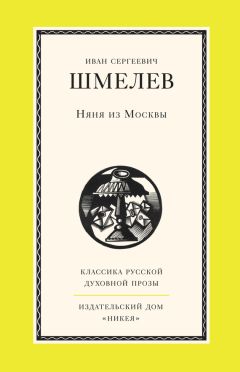«Милости?!. – так это, на меня, удивилась словно. – Я не понимаю, что вы говорите, какой милости?..»
«Душевной, – говорю, – вся истомилась-истерзалась, не сплю, не ем, на свет бы не глядела… с вашей милости подымусь, к одному бы уж концу, по правде только. В себе утаю, в случае чего… ни единая душа не узнает, по правде только… может, Господь по мысли вам даст?..»
Вытаращилась на меня, не понимает, опасается меня словно. И правда, барыня, после-то я подумала, небось она меня за сумашедчую приняла.
«Успокойтесь, няня, – говорит, – скажите просто, не плачьте. Какой вам от меня правды надо, какой милости? Скажите, что я могу – я сделаю».
Тут самое это и подошло: всю правду надо сказать. И говорю:
«Я, – говорю, – Катичкина няня, и Васеньку вот какого еще знала, и вашу сестрицу знала… они меня обласкали, Царство Небесное, вечный покой…» – грех на душу взяла. Ну, какое ей Царство Небесное, мучается там, такой грех…
Она так это… с креслов поднялась, к окошку оборотилась. Тут я и увидала – горбатенькая она. И вижу – глазом все дергает, и губами так, – на щечке у ней жевлачки играют. Оборотилась ко мне:
«Вы где же мою Велентину видали?»
«А в Крыму видала… она меня, – говорю, – поцеловала, в самый тот день, как кончилась… оступилась нечаянно в овраг…»
Грех на душу взяла, неправду сказала, ее бы не тревожить. А она затревожилась, к окошку отворотилась, четками зашумела. А я молчу, себя не чую. Она и говорит, на сад:
«Такое несчастье… – по-ихнему стала говорить, не разобрала я… может, молиться стала, четки задергала, а я молчу, затаилась. – Такое несчастье… А как она вас видала, где видала… у кого вы жили?»
Я тут и предалась ей, раскрылась… – ну, что уж будет, один конец.
«Барышня, – говорю, – ваше сиятельство… помилуйте, окажите Божецкую милость… и вас няня жалела, при вас бы была, коли бы жива была. И я всю жизнь при барышне своей, при Катичке моей…»
Так и настражилась! цветочки на окне стала теребить…
«Вы у кого служили, при какой барышне?..» – строго так.
Стала ей говорить, слезы потекли, не вижу ничего… сползла на половичок, не помню как… она меня подымает, слышу…
«Что вы, зачем… не надо, успокойтесь…»
«Не серчайте, – говорю, – милая барышня, ваше сиятельство… простите меня, глупую… не к слову чего скажу, душу ослобоню…»
Посадила меня на стул, по плечу так, милостиво…
«Ничего, ничего… все говорите, не бойтесь».
Пошла от меня, на кресла села, книжечку открыла… и опять закрыла.
«Я, – говорю, – не сказалась им… измучилась на их терзанья глядеть, собралась – к вам поехала, уж один конец. Скажете чего – так и поверю, вечно Бога буду за вас молить… все вы знаете про сестрицу…»
Все и выложила, как Господь навел. Как каменная сидела. Откинулась на спинку, ручки так, крест-накрест, ножки вытянула, гру-устная-разгрустная. Ничего меня не перебивала, ни словечка. Всего где же сказать, а сказала – все она поняла. Умная, по глазам сразу видно, – в себя глядится.
«Я поняла, – говорит, спокойно так, не ждала я. – И вы хотите всю правду… всю?»
«Как вашей милости угодно, что Господь вам на душеньку положит, – говорю, – мне помирать скоро, правду вам говорю – самовольством я все, надумала к вам… ни одна живая душа не знает».
Она, может, минуток пять молчала, четки перебирала. А я по стенам оглядываю… увидала Господень Крест, а на Кресте Спаситель; а на главке терновый венец, настоящий колючий… и Спаситель не написан, а настоящее Тело Христово, и колючки-шипы, и по главке кровь течет, от колючек! И она туда оборотилась, на Спасителя. Потом встала, подошла ко мне, положила ручку на голову мне, на платок…
«Няня… вы за правдой ко мне пришли…» – в глаза мне поглядела, в слезы мои поглядела… и вздохнула, – жалко даже мне ее стало.
А я ей про то письмо помянула, говорила когда… – правды, мол, мы не знаем, чего в письме, и она его не печатала, и мучается, а волю покойной не нарушала… а сумление в ней… они и мучаются. А горячее слово сказано, заноза и засела, мука… И про письмо не просила, правды только просила.
Ну, все она поняла, будто в душу мою глядела. Пошла к столу, открыла ящичек. Старинный стол, все-то в нем ящички. И вынимает… самое то письмо, с печатями, как власти припечатали, пять печатев! Признала я его, трепаное оно. Вспомнила, как трепали, и по полу-то валяли, и под тюфяк его прятала, руки оно мне жгло.
«Вот, – говорит, – вся тут правда. Дозволяю вам, прочитайте».
А я неграмотная. Сказала ей – заплакала. Подумала она, в окно поглядела:
«Хорошо, возьмите… пусть мне возворотят. Ничего больше не надо?»
«Ничего, ваше сиятельство, – говорю, – покорно благодарю за милость вашу».
Не помню всего, закачалась я, упала со стульчика… Она меня подняла, в колокольчик позвонила. Гляжу – монашки мне чашечку дают, тепленького питья, липового чайку. Две чашечки выпила, отдышалась. Она, милая, и говорит:
«Желаю вам, няня, спокой душе. А как успокоитесь, навестите меня, рада буду».
Ангельской доброты она. Ручку поцеловать хотела, она не далась.
«До свиданья, няня…» – сказала, ласково.
Вывели меня монашки, довели до ворот, – меня Николай Петрович ждет. Солнышко такое, птички поют, – ну, самое Вознесение на небеса! Довел он меня на шестой этаж, обезножела я совсем, дрожу вся… – не знаю, в письме-то чего написано. Марфа Петровна прибежала, – «что с вами, Дарья Степановна, на себя не похожи!» Лихорадка, говорю, треплет. К Авдотье Васильевне сил нет ехать, а письмо меня жгет, правда со мной вся тут.
Попросила оказать Божецкую милость, телеграмму Авдотье Васильевне послать, – приехала бы, плохо мне. А не сказываю Марфе Петровне, чисто краденое храню. Она на язык невоздержная, пойдет трясти по городу, сказать-то ей про письмо… – вот я и притворилась будто. Да и правда, больная вовсе.
Думаю про письмо, дрожу. Ночь не спала, письмо под подушкой, спокою не дает. Подумать, чего слово человеческое может! письмо-то. И не говорить, а… Поутру Авдотья Васильевна прилетела, напугалась. А тут Марфа Петровна вертится, чего-то чует, хочется ей узнать. Шепнула я желанной моей, она сразу поняла, – к доктору едем! Мы и поехали, на бульварчик. Сели на лавочку, стала она мне письмо читать… а письмо-то француз-ское! Она и не понимает, буковки только может прочитать. Ну, что нам делать? К вам, барыня… да близкий ли конец, к вам! А у меня сердце горит, правду узнать. Надумала я: к графу Комарову, все может прочитать. А я у них бывала, помнила место хорошо, неподалечку живет. А он уж блаженный стал, всем услужить рад. Купила ему гостинчику – халвы четверку, халву он любит… осьмушечку чайку, лимончик… наняли таксю, в две минутки нас подкатил. Денег уж не жалела. Застали мы графа Комарова, куколки сидит-красит. Поклонились ему гостинчиком. Усадил нас на ящики, – бе-д-но живет, – на Авдотью Васильевну мою залюбовался. А она так графов уважала… в Москве все книжки про графов прочитала, антересовалась так, – а тут живой граф, в гости к нему пришли. А она застенчивая такая, сидит – разгорелась, розанчик живой стала, графыне не уступит… и шляпка у ней горшочком, – ну, парижская красавица прямо стала. Подали ему письмо – так и так, сделайте такое ваше одолжение, ваше сиятельство. Он и посмеялся Авдотье Васильевне моей: «А еще в Париже живете, как же так! Француз какой-нибудь вам приятное написал, про чувства, а вы не можете прочитать. Давайте в месяц вас обучу, сами будете приятные письма писать».
Любовался все на нее, шутил. А нам уж не до шуток, едва сижу. Ну, стал он читать прямо по-нашему, – ничего я не поняла. Авдотья Васильевна уж растолковала… а я и смеюсь, и плачу, хорошее письмо-то очень. Не выпустил нас без чаю, Авдотье Васильевне куколку подарил – русского молодца, пошутил: «лучше француза будет, как раз по вас!» Она прямо со стыда сгорела: казака ведь ей подарил! блаженный-то он… прочуял! Ну, попросили мы его сиятельство, графа Комарова, – уж будьте так добры, никому не сказывайте, это секрет наш тайный. А он смеется: «Как можно, я действительно тайный генерал, – вот-вот, так и сказал, вы-то как говорите, – советчик я тайный, – я, – говорит, – все тайны держу-храню и советы подаю… вы в самое место попали, приехали ко мне».
Ножкой даже Авдотье Васильевне пошаркал, такой любезник. Она так и законфузилась. Ну, думалось ли когда, в Москве-то жили… вот и довелось, за ручку с графом поздоровалась, чайку попила. Ну, хорошо. Все она мне растолковала, все я поняла, – камень с души свалился. А письмо-то вовсе коротенькое было, вот такое, вершочка три буковок. А вот чего написала, какая была правда… Значит, так: она, графыня та, не посмела сестре-кузине неправду написать… католичка-монашка она, да смертное ведь письмо… самый последний человек не может неправду в смертной написи допустить… ведь правда, барыня? – она и не осмелилась солгать. Она всю правду истинную написала, горькую правду всю. Значит, так… – я, говорит, самая несчастная, и любовь моя была безответная, а я все на жертву принесла… Она, может, и думала, женится на ней Васенька, а он и разговору не начинал. Узнала она, – Катичка его невеста старинная, и опять у них дело сладилось, она и поняла: не на что ей рассчитывать теперь, и жить надоело ей, и вот она самовольно и кончает жить. И все, и больше ничего. Так и написала: «прощай, сестрица-кузина, сил моих нет».