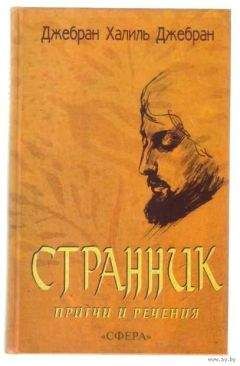Он ловко играл как словами наших пророков, так и святынями наших предков.
Он дошел до того, что призывал в свидетели безгласные могилы, а мертвых объявлял своими предтечами и теми, кто послал его.
Он завлекал женщин города Иерусалима и окрестных селений с хитростью паука, завлекающего муху; и они попадали в его сети. Потому что женщины – создания слабые и глупые, они идут за тем, кто нежными и ласковыми словами может утишить их нерастраченный пыл. Если бы не они, слабовольные, подпавшие под влияние его чар, его имя стерлось бы из памяти людской.
А кто были мужчины, что последовали за ним? Рабы, которых впрягают в ярмо, попирают ногами. В своем неведении и страхе они никогда не восстали бы на своих законных хозяев. Но после того как он посулил им высокое положение в его призрачном царстве, они поддались на эту химеру, как глина поддается горшечнику.
Ведь известно: раб всегда мечтает стать господином, а слабый – львом.
Галилеянин был фокусником и обманщиком, отпускавшим грехи всем грешникам, чтобы слышать
«Осанна» из их нечестивых уст. Он утешал слабые сердца несчастных и потерявших надежду, только чтобы иметь слушателей и свиту, которые бы внимали его голосу и шли за ним по первому зову.
Он нарушал субботний день отдохновения вместе с теми, кто это делал, чтобы заручиться поддержкой беззаконных; в синедрионе[67] он порицал наших первосвященников, чтобы привлечь к себе внимание и тем самым утвердить свою славу.
Я часто говорил, что ненавижу этого человека. Да, я ненавижу его сильнее, чем римлян, правящих нашей страной. Да и пришел он к нам из Назарета – города, проклятого нашими пророками, этого гноища язычников, от которого ничего путного ждать нельзя.
Он был поэт. Он видел и слышал то, что мы не могли видеть и слышать; на его устах были слова, которые мы не в силах были высказать, и его пальцы касались того, что мы не были в состоянии ощутить.
Да, он был поэт, чье сердце обитало в заоблачных высях, а песни его, хотя он пел их для нас, предназначались также и для других – для людей в иной стране, где жизнь вечно молода и где всегда царит рассвет.
Когда-то я тоже мнил себя поэтом, но вот, повстречав его в Вифании, я понял, что значит держать в руках инструмент с единственной струной, когда перед тобой тот, кому подвластны все инструменты. Ибо в его голосе были и хохот бури, и плач дождя, и веселая пляска деревьев на ветру.
С тех пор, как я понял, что у моей лиры всего одна струна, а мой голос не в силах соткать ни воспоминаний о вчерашнем дне, ни надежд на завтрашний день, я отложил лиру в сторону и решил хранить молчание. Но неизменно в сумерках я буду прислушиваться и услышу поэта – владыку над всеми поэтами.
Я, человек в Иерусалиме чужой, пришел в этот Святой город поглядеть на великий храм и принести на его алтарь жертву – ведь жена родила двух сыновей-близнецов мне и моему племени.
Я совершил жертвоприношение и стоял на галерее, наблюдал за менялами, за продавцами жертвенных горлиц и прислушивался к пронзительным выкрикам во дворе храма.
Вдруг вижу: в толпе менял и продавцов голубей появился какой-то человек. И был он важен и шел быстро. В руке у него была плеть из козлиной кожи. И я видел, как он опрокидывает столы у менял и бьет плетью торговцев птицами.
И я слышал его громкий голос:
– Выпустите птиц на волю, ибо в небе – их гнезда!
Мужчины и женщины разбегались от него в стороны, а он кружил среди них, как буйный ветер в песчаных холмах.
Все это случилось за один миг. Менялы исчезли с храмового двора. Там остался только тот человек, а пришедшие с ним ждали в отдалении.
Я повернулся и увидел на галерее еще одного человека. Я подошел к нему и спросил:
– Господин, кто этот, что стоит один, словно второй храм?
И тот ответил:
– Иисус из Назарета, пророк, он появился в Галилее недавно. Здесь, в Иерусалиме, его все ненавидят.
– В моем сердце достаточно силы, чтобы быть заодно с его плетью, и достаточно мягкости, чтобы склониться к его ногам, – сказал я.
А Иисус повернулся к ожидавшим его. Но до того как он подошел к ним, три храмовых голубя прилетели назад, один сел ему на левое плечо, а два других опустились у ног. Он ласково погладил каждую птицу. Потом пошел, и каждый шаг его был равен целым лигам[68].
Теперь скажите, какой силой должен был обладать этот человек, ринувшийся в толпу и разогнавший ее без малейшего сопротивления? Мне сказали, что все они ненавидят его, но в тот день никто ему не перечил. Может, по дороге к храму вырвал он ядовитые корни ненависти?
Он был чужим среди нас, и жизнь его была скрыта темными завесами.
Он не следовал заветам нашего Бога, а избрал путь непотребный и постыдный.
Детство его было мятежным и отвергло сладостное молоко нашей сущности.
Его юность сгорела, словно высохшая трава, что вспыхивает в ночи.
А когда он вступил в пору зрелости, он поднял оружие на всех нас.
Подобные люди зачаты в час отлива человеческой доброты и рождены во время дьявольских бурь. И в бурях живут они всего день, чтобы сгинуть навеки.
Разве вы не помните его, самоуверенного мальчишку, который спорил с нашими учеными старейшинами, глумился над их достоинством?
Разве вы не помните его, юнца, зарабатывавшего себе на пропитание пилою и долотом?
Он никогда не участвовал в праздниках вместе с нашими сыновьями и дочерьми. Он всегда ходил один.
И не отвечал тем, кто его приветствовал, как будто был выше их.
Сам я повстречал его однажды в поле и поздоровался. Он лишь улыбнулся, и эта улыбка, как я отметил, была надменной и оскорбительной.
Вскоре после этого моя дочь вместе со своими подругами отправилась на виноградники – собирать спелые гроздья; она тоже заговорила с ним, но он ей не ответил.
Он обратился сразу ко всем, собиравшим виноград, как если бы дочери моей среди них и не было.
После того как он покинул свой народ и пустился бродяжничать, он стал не кем иным, как болтуном-пустомелей. Его голос впивался, как коготь, в нашу плоть, а самый звук этого голоса до сих пор отдается болью в нашей памяти.
Он говорил о нас, о наших отцах и праотцах одно дурное. Его слова пронзали нашу грудь, как отравленные стрелы.
Таков был Иисус.
Будь он моим сыном, я бы отправил его вместе с римскими легионами в Аравию и попросил военачальника поставить его во время сражения в самый первый ряд, чтобы вражеский лучник смог, метко прицелившись, убить его и избавить меня от его оскорбительного высокомерия.
Но у меня нет сына. И, скорее всего, я должен быть благодарен за это. Ибо, если б мой сын был врагом своего собственного народа, он унизил бы мои седины и я, устыдившись, посыпал бы пеплом свою голову.
Говорят, что Иисус был врагом Рима и Иудеи.
А я утверждаю, что он не был врагом никому – ни одному из людей, ни одному из народов.
Я слышал, как он говорил: «Птицы в небесах и горные вершины не замечают змей и их темных нор».
«Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. А вы будьте среди живых и летайте высоко»[69].
Я не принадлежал к числу его учеников. Я был лишь одним из многих, кто шел за ним, чтобы увидеть его лицо.
Он смотрел на Рим и на нас – рабов Рима, – как отец смотрит на играющих детей, что дерутся друг с другом из-за того, кому достанется игрушка поярче. И он смеялся с высоты, на которой пребывал.
Он был больше, чем государство и народ; он был больше, чем революция.
Моя жена часто рассказывала мне о нем до того, как его привели ко мне, но меня это не интересовало.
Моя жена – мечтательница; как и многие римлянки, равные ей по положению, она увлечена восточными культами и обрядами. Но культы эти являют опасность для империи. Если же они находят дорогу к сердцам наших женщин, то становятся страшной разрушительной силой.
Египту пришел конец, когда аравийские гиксосы принесли с собою из пустыни своего Бога. Греция была побеждена и обращена во прах, когда Астарта с семью прислужницами явилась в эту страну с берегов Сирии.
Иисуса же я не видел до того, как его доставили ко мне как преступившего закон, как врага собственного народа, а также Рима.
Когда его ввели в зал суда, руки его были прикручены веревками к телу.
Я сидел на возвышении, и он направился ко мне твердым, широким шагом. Приблизившись, встал прямо, высоко подняв голову.
Что на меня нашло тогда – никак не могу постичь, но против моей воли мне вдруг захотелось сойти с возвышения и пасть перед ним. Мне показалось, будто в зал вошел кесарь или же человек более великий, нежели сам Рим.