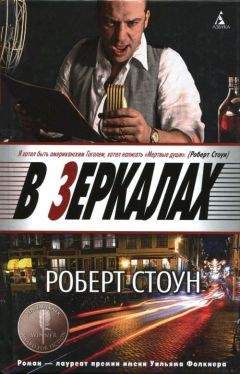Он вышел и направился по коридору к комнате отдыха, ориентируясь на бархатные раскаты красноречия Фарли.
— Естественный закон… — убедительно возглашал Фарли. — Извечная философия…
Он стоял возле пальмы, одетый как для торжественного приема: его черный костюм был из настоящего шелка, рубашка — белее белого, галстук — кембриджский. Шляпа из легкого фетра, лежавшая на соседнем стуле, была готова увенчать его задумчивое чело. Ему внимала веснушчатая дама лет сорока, в дорогом наряде и недурно сложенная; она взирала на лик Фарли с беззастенчивым благоговением.
Рейнхарт смиренно подошел к ним.
— Простите, ваше высокопреосвященство, — сказал он Фарли. — Простите, сударыня.
Дама что-то булькнула. Фарли откашлялся.
— Мне нужно было бы поговорить с вами о следующем еженедельном поучении.
— Конечно, конечно, мой милый, — сказал Фарли. — Миссис Макалистер, это мистер Рейнхарт… э… сотрудник станции. Познакомьтесь, Рейнхарт, — сестра Макалистер, постоянная слушательница «Благих вестей».
— Здравствуйте, — сказал Рейнхарт.
Они прошли через двойные двери в коридор, и там Фарли посмотрел на Рейнхарта с неудовольствием.
— Где твоя проницательность, Рейн? Ты свои «преосвященства» брось: эта дамочка, возможно, не слишком сообразительна, но она все-таки не идиотка, а к тому же заядлая баптистка.
— Извиняюсь, ваше преподобие. Что слышно?
Фарли улыбнулся и наклонился к нему с благолепной ухмылкой:
— У меня все в ажуре, Джек. — Он потрогал лацкан своего траурного пиджака. — А слышны благие… черт возьми… вести. Сегодняшнюю мою слышал?
— Еще бы, — сказал Рейнхарт. — Я потрясен.
Фарли хохотнул:
— Тебе не показалось чересчур… витиевато?
— Ни капли.
— Ты даже не представляешь себе, сколько я получил писем после каких-нибудь четырех передач. Восторженные восхваления, старина! Полный почтовый ящик. И даже несколько угрожающих писем.
— Чудесно! — сказал Рейнхарт. — Надеюсь, ничего слишком неприятного?
— Когда ты получаешь угрожающие письма, Рейнхарт, это означает, что никто не сомневается в твоей подлинности. Единственное, которое мне не понравилось, подписано… Забыл! Может быть, кто-нибудь из старых знакомых решил подложить мне свинью.
Он порылся в кармане и вытащил листок почтовой бумаги, на котором красными чернилами было написано:
Ты мошенник, как все проповедники, и тебя можно изобличить.
У меня есть доказательства, и я тебя, подлеца, покараю за то, что моя жизнь и мой дом были принесены в жертву на Алтаре Алчности.
С. Протуэйт
— Мы его знаем? — спросил Фарли. — Ты его не встречал в Миссии или еще где-нибудь?
— Никогда о нем не слышал, Фарли. По-моему, честный псих и ничего больше.
— Таким парням самое место в реке, — задумчиво произнес Фарли. — Когда дело идет о таких деньгах… — Он замолчал, дабы объять мыслью эти деньги. — Да, черт подери, — сказал он Рейнхарту, — Золотой Флаг поднят, и это ты меня надоумил. Я тебя не забуду, друг.
— Пустяки, Хитклифф. А эта дамочка зачем?
— Вдовица, — хищно сказал Фарли. — Богата, как Крез. Торговля перцем. Она помогает мне в делах Миссии.
— Бингемону не понравится, если ты слишком уж обособишься. Ведь Миссия живой благодати — это он, так?
— Что он — Великий Белый Отец, я не отрицаю, друг мой. Но Миссией за него управляю я, и в некоторых отношениях мне предоставлена полная свобода. — Он оглянулся на двери комнаты отдыха. — Это больше, чем я рассчитывал, Рейнхарт.
Его лицо приняло проникновенное, просветленное выражение.
— Ты пришел к моим дверям, друг, несчастный и больной от пьянства. Если бы сердце мое очерствело, я мог бы прогнать тебя. Но я принял тебя и вскоре благодаря тебе получил награду, равных которой еще не знал. Только самый твердолобый атеист не усмотрел бы тут предначертания свыше.
— Послушай, Хитклифф, — весело заметил Рейнхарт. — Если тебе вдруг захочется тряхнуть стариной, я мог бы раздобыть травки. Ну как?
Фарли отшатнулся в ужасе.
— Изыди, Сатана, — сказал он сурово. — Ты с ума сошел? Ты больной человек, Рейнхарт, развращенный до мозга костей, старина. Я спас тебя от алкоголизма, а ты теперь пыхать наладился. Эдак ты кончишь, как Наташа. К тому же мой кайф другого рода.
Он показал на комнату отдыха, где ожидала миссис Макалистер:
— Я ловлю его там.
И, поправив прядь на лбу, Фарли исчез за двойными дверями. Рейнхарт вернулся к своему столу и открыл журнал передач. Ирвинг в кабинете тонмейстера смотрел на часы.
— Рейн! — сказал он в переговорную трубку. — Врубить тебе «Сьюпримз»?[74]
— Отставить пташек, — сказал Рейнхарт, — давай «Книгу любви»[75].
— Второй раз?
— Ну, Инес Фокс[76].
Ирвинг нажал на кнопки и включил рекламную ленту. Над его головой загорелись красные лампочки, у микрофона Рейнхарта вспыхнула лампа. Когда реклама кончилась, Ирвинг подал сигнал, и Рейнхарт вышел в эфир под свои позывные «Иди, не беги».
— Друзья, — сказал он, — все оттяжники на чудесном и великом Юге, все ребята и хорошенькие девушки, все, кто не спит — за рулем, или лакомится гамбургером в «Белом замке», или дежурит в ночной прачечной, — привет!
Он привернул регулятор громкости, проглотил таблетку риталина и быстро запил ее пивом.
— Давайте послушаем что-нибудь позабористее…
Морган Рейни отыскал мистера Клото в задней комнате кафе. Мистер Клото сидел перед конторкой, окруженный несколькими пианолами; ящики конторки были набиты старыми, выцветшими пианольными цилиндрами.
— Выберите песенку, мистер Рейни, — сказал он. — Любую старую песню.
— Вы их коллекционируете? — спросил Рейни.
— Раньше я давал их напрокат. Иногда продаю коллекционерам. Видите ли, мое положение не позволяло мне приобрести музыкальные автоматы.
— Как их у вас много! — сказал Рейни.
— Вот эти, — сказал мистер Клото, поднимая плетеную сумку, полную пианольных цилиндров, — принадлежали миссис Бро.
— Кому? — переспросил Рейни.
— Вы забыли, мистер Рейни. Миссис Бро была моей жилицей. Дама, которой вы оказали участие на той неделе.
— Да-да… — сказал Рейни. — Я забыл ее фамилию.
— Очевидно, в отделе вас совсем загоняли. Они задают столько работы вашему чувству ответственности, что от постоянного употребления оно, пожалуй, совсем износится.
— Фамилии… — сказал Рейни. — Я их как-то не запоминаю.
— Я вашу фамилию слышал, да, мистер Рейни? Я слышал о вашей семье.
— О семье, наверное, слышали. С тех пор как поступил в колледж, я живу на Востоке.
— Потеряли связь?
— Да, — сказал Рейни. — Потерял связь.
— На сумму, вырученную за ее имущество, мы обеспечили миссис Бро духовкой. У нее было много вещиц того рода, которые сейчас в моде у молодых интеллигентов. Старинных вещиц.
— Духовкой?
— Духовкой, — сказал мистер Клото. — Нишей на кладбище.
— А, да, — сказал Рейни.
— Вернемся к нашим, так сказать, баранам, — доброжелательно продолжал мистер Клото. — Посмотрим, не удастся ли нам сегодня воззвать к вашему чувству ответственности. Кто сегодня должен пожать плоды вашей профессиональной компетентности?
— Некий мистер Хоскинс, — сказал Рейни. С глазами у него было что-то неладно. — Мистер Лаки Хоскинс.
Мистер Клото кивнул:
— Да будет это мистер Лаки Хоскинс.
Он встал, и Рейни вышел вслед за ним на внутреннюю лестницу, зажатую между красных стен. Они поднялись по трем маршам и вошли в коридор, где красная краска на корявых досках превратилась в розовую облезающую корочку и где вечернее солнце, пробиваясь сквозь щели в стене, перекидывало через покатый пол коридора мостики оранжевых лучей.
Мистер Клото остановился перед одной из дверей, прислушался и постучал по розовой филенке.
— Кто-то стоит у двери, — произнес голос внутри. — Кто-то стоит у двери.
— Это мистер Клото, — бодро отозвался мистер Клото.
Когда дверь отворилась, они увидели высокого темно-коричневого сутулого мужчину, который, прищурившись, с опаской всматривался в розовый свет. Он был чудовищно толст; живот под белой рубашкой вздувался и обвисал. Ниже пояса полосатые брюки бугрились на складках жира. У него была только одна рука. Пустой рукав против обыкновения не был пришпилен к груди, а торчал потным комком под мышкой.
— Клото, чего тебе надо? — спросил мистер Лаки Хоскинс.
Он заглянул за плечо мистера Клото и увидел у стены Рейни.
— Ну вот, — спросил он печально, — какой еще неприятности мне ждать?
— Что ты, Лаки, — сказал мистер Клото. — Этот джентльмен — никакая не неприятность. О нет! Он пришел поговорить с тобой от имени правительства и своего собственного чувства ответственности. Он социолог.