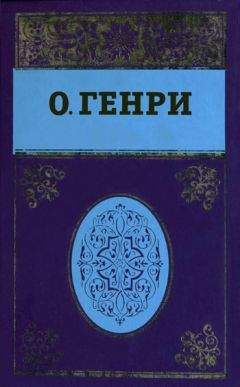— Да, это верно… надо бы выпить чего-нибудь! — ответил Трисдаль.
— Между нами будь сказано, твой бренди отвратителен! — заметил его приятель, привстав с места и подойдя поближе. — Вот поезжай к нам, в Пунту-Редонду, и отведай наш бренди, который готовит старый Гарсиа. Уверяю тебя, не пожалеешь о том, что так далеко и долго ехал. Постой, постой, брат, я вижу у тебя моего старого знакомого! Скажи, пожалуйста, каким образом попал к тебе этот кактус?
— Подарок от приятеля! — уклончиво ответил Трисдаль. — Ты знаешь эту породу?
— Ну вот еще! Отлично знаю! Это — тропическое растение, которое у нас, в Пунте, ты можешь встретить на каждом шагу. Вот и название его на ярлыке! Ты знаешь испанский язык, Трисдаль?
— Нет! — ответил Трисдаль с горькой улыбкой. — А разве тут по-испански написано?
— Конечно! Мои земляки держатся старинного поверья, что листья кактуса передают тем, кому они посланы, любовный привет. Вот почему южные американцы называют эту разновидность кактуса «Ventomarme», что означает по-испански: «Приди и возьми меня!»
Сердца и руки{29}
(Перевод М. Кан)
В Денвере Балтиморский экспресс брали с бою. В одном из вагонов удобно и даже с комфортом, как свойственно бывалым пассажирам, устроилась очень хорошенькая, изысканно одетая девушка. Среди тех, кто только что сел в поезд, были двое, оба молодые, один — красивый, с дерзким, открытым лицом и такой же повадкой; другой — озабоченный, угрюмый, грузноватого телосложения, просто одетый. Они были пристегнуты друг к другу наручниками.
Двое двинулись по вагону, где незанятой оставалась лишь скамья напротив хорошенькой пассажирки. Сюда, к ней лицом, но против движения поезда, и сели неразлучные двое. Взгляд девушки, чужой, равнодушный, скользнул по ним мимоходом, и вдруг на ее лице расцвела прелестная улыбка, круглые щеки зарделись нежным румянцем, она протянула вперед маленькую руку в серой перчатке. Первые же звуки ее голоса, грудного, мелодичного и уверенного, возвестили о том, что, когда его владелица говорит, ее слушают и она к этому привыкла.
— Что ж, мистер Истон, если вам угодно, чтобы я заговорила первой, извольте. Вы нарочно не узнаете старых друзей, если встречаетесь с ними на Западе?
Услышав ее голос, тот, что помоложе, встрепенулся, секунду помедлил, как бы преодолевая легкое замешательство, но тут же справился с собой и схватил левой рукой протянутую руку.
— Как не узнать, — сказал он с усмешкой. — Мисс Фэрчайлд! Прошу извинить, что здороваюсь левой рукой, правая в настоящую минуту занята другим.
Он чуть приподнял правую руку, скованную блестящим «браслетом» на запястье с левой рукой его спутника. Радость в глазах девушки медленно угасла, сменяясь ужасом и недоумением. Румянец сошел с ее щек. Рот приоткрылся огорченно и разочарованно. Истон, словно наблюдая что-то забавное, коротко засмеялся и собрался было заговорить опять, но его опередил второй. Все это время острые, смышленые глаза угрюмого пассажира исподтишка следили за выражением ее лица.
— Вы уж простите, мисс, что я к вам обращаюсь, только я вижу, вы знакомы с шерифом. Так, может, попросили бы, пусть замолвит за меня словечко, когда прибудет в тюрьму. Он вам не откажет, а мне все же будет послабление. Он ведь сажать меня везет, в Леве-нуэрт. На семь лет, за подлог.
— Ах вот что! — сказала пассажирка, глубоко вздохнув, и лицо ее опять порозовело. — Вот чем вы тут занимаетесь! Стали шерифом?
— Мисс Фэрчайлд, милая, надо же мне было чем-то заняться, — спокойно сказал Истон. — Деньги имеют свойство улетучиваться сами по себе, а за теми, с кем вы и я водили знакомство в Вашингтоне, без денег не угнаться. Подвернулся случай на Западе, вот я и… конечно, шерифу далековато до посла, но все же…
— А посол у нас больше не бывает, — с живостью отозвалась девушка. — И незачем ему вообще было к нам ездить. Вы могли бы знать это. Ну а вы теперь, значит, заправский герой Дикого Запада, скачете верхом, стреляете, и на каждом шагу вас подстерегают опасности. Да, в Вашингтоне живут по-другому. А вас там многим не хватало в кругу старых знакомых.
Глаза девушки, чуть расширясь, снова зачарованно устремились к сверкающим наручникам.
— Вы насчет них не сомневайтесь, мисс, — сказал второй. — Шерифы всегда пристегивают к себе арестантов наручниками, чтобы не сбежали. Мистер Истон свое дело знает.
— Скоро ли вас ждать обратно в Вашингтон? — спросила пассажирка.
— Боюсь что не скоро, — сказал Истон. — Видно, кончились для меня беззаботные деньки.
— Мне страшно нравится на Западе, — без всякой связи с предыдущим сказала девушка. Глаза у нее мягко светились. Она отвела их к вагонному окну. Она заговорила прямо и просто, без гладких оборотов, предписанных воспитанием и правилами хорошего тона: — Мы с мамой прожили это лето в Денвере. Неделю назад она уехала домой, потому что прихворнул отец. Я прекрасно могла бы жить на Западе. По-моему, здешний воздух очень полезен для здоровья. И не в деньгах счастье. Но некоторые люди такие глупые и так все неверно понимают…
— Послушайте, это нечестно, начальник, — ворчливо сказал угрюмый. — У меня вся глотка пересохла и курить охота с утра. Неужели еще не наговорились? Взяли бы да отвели человека в вагон для курящих. Помираю без трубки.
Скованные друг с другом путники поднялись, и на лице у Истона появилась прежняя ленивая усмешка.
— Грех отказать в такой просьбе, — сказал он беспечно. — Нет лучше друга у обездоленных, чем табачок. До свидания, мисс Фэрчайлд. Ничего не поделаешь, служба.
Он подал ей руку на прощанье.
— Так жаль, что вы не на Восток, — сказала она, вновь облачаясь в латы воспитания и хорошего тона. — Но вам, очевидно, никак нельзя не ехать в Левенуэрт?
— Да, — сказал Истон. — Никак нельзя.
И двое стали бочком пробираться вдоль прохода к вагону для курящих.
Два пассажира с соседней скамьи слышали почти весь разговор. Один сказал:
— Душевный малый, этот шериф. Здесь, на Западе, попадается славный народ.
— А не молод он для эдакой должности? — спросил второй.
— Почему молод! — воскликнул первый. — По-моему… Постойте, да разве вы не поняли? Ну подумайте сами — какой же шериф пристегнет арестованного к своей правой руке?
Воробьи на Мэдисон-сквере{30}
(Перевод Н. Галь)
Молодому человеку в стесненных обстоятельствах, если он приехал в Нью-Йорк, чтобы стать писателем, и притом заранее тщательно изучил поле боя, требуется сделать только одно. Надо прямиком отправиться на Мэдисон-сквер, написать очерк о здешних воробьях и за пятнадцать долларов продать его редакции «Сан».
Я не могу припомнить ни единого романа или рассказа на ходкую тему о молодом литераторе из провинции, приехавшем в великий город завоевать пером богатство и славу, в которых герой не начал бы именно с этого. Даже странно, почему какой-нибудь автор в поисках сверхоригинального сюжета не додумался заставить героя описать синиц на Юнион-сквере и продать свое произведение «Гералду». Но комплекты нью-йоркских журналов неоспоримо свидетельствуют в пользу воробьев и зеленого островка на старой площади, и чек всегда выписывает «Сан».
Разумеется, нетрудно понять, почему первая дерзкая попытка начинающего автора всегда увенчивается успехом. Его подстегивает необходимость сделать сверхчеловеческое усилие; в огромном грохочущем городе, среди железа, камня и мрамора он отыскал уголок, где зеленеют трава и деревья и щебечут птицы; все чувствительные струны его души трепещут в сладостной тоске по родным местам; быть может, никогда больше в нем не пробудится с такой силой творческий гений; птички поют, колышутся ветви деревьев, забыт грохот колес; он пишет, вкладывая в строчки всю душу… и продает свое творение в «Сан» за пятнадцать долларов.
Многие годы читал я про этот обычай, прежде чем приехал в Нью-Йорк. Когда друзья, пуская в ход самые убедительные доводы, пытались отговорить меня от поездки, я лишь безмятежно улыбался. Они не знали, что в запасе у меня фокус с воробьями.
Когда я приехал в Нью-Йорк и трамвай повез меня от парома по Двадцать третьей улице прямиком к Мэдисон-скверу, я уже слышал, как этот чек на пятнадцать долларов шуршит у меня в кармане.
Я остановился в каком-то скромном пансиончике и на другое утро, в час, когда едва просыпаются воробьи, уже сидел на скамье в Мэдисон-сквере. Мелодичное воробьиное чириканье, приветливая весенняя листва величавых деревьев и свежая душистая трава с такой силой напомнили мне старую ферму, которую я покинул, что на глаза мои чуть не навернулись слезы. И тотчас меня посетило вдохновение. Смелые звонкие голоса этих веселых пичужек словно задавали тон чудесной, светлой, причудливой песне надежды, радости и любви к ближнему. Сердца этих крохотных созданий, как и мое сердце, звучали в лад лесам и полям; как и я, они, по воле случая, оказались пленниками сумрачного шумного города, — но как же весело, с каким изяществом они переносят неволю!