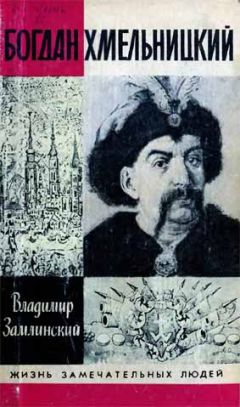— Правда! Правда! Богун не зрадник, да и Кривонос, и Чарнота! — раздались кругом крики пробужденной толпы.
— Выбрать нового гетмана, да такого, чтоб не продал нас ляхам!
— Богун, Богун! Атаман! — раздались сразу во всех концах крики.
— Богун! — заревела, как один человек, вся толпа, и шапки полетели вверх.
Несколько мгновений крики не унимались. Богун порывался говорить, но голос его терялся в исступленном реве толпы. Наконец крики слегка умолкли.
— Честное товарыство, шановная черная рада, — заговорил Богун, кланяясь на все четыре стороны, — спасибо вам за честь и за ласку, но гетманом вашим я не буду и никто из нас не примет этой чести, пока батько наш, освободитель наш жив, а временным наказным... Но, шановная рада, есть у нас постарше и позаслуженнее меня.
— Не ко времени, друже Иване, соблюдать теперь звычай, — отозвался Кривонос, — все мы тебя просим быть наказным!
— Богун — гетман! Богун — гетман! Слава! — снова раздался общий оглушительный крик, и шапки зачернели тучами в ночной мгле.
— Коли такая воля громады, так должен я ей кориться, — поклонился Богун на все стороны, — только с тем условием прийму я булаву наказного: чтобы меня слушали все, как один.
— Згода! Згода! — прокатилось громом.
— Если будет покорность, я обещаю вам спасти вас всех!
— Слава! Слава гетману! — раздался восторженный крик и покрыл слова Богуна.
— Ну, так слушать же беспрекословно мой наказ! — обратился ко всем повелительным голосом Богун, надевая шапку.
Вся толпа обнажила свои головы.
— А все по своим местам, быть готовым! Старшину я приглашаю на раду к себе.
Толпа разошлась молча, покорно, в полном порядке. Отец Иван только осенял проходящих крестом.
Через час в палатке Богуна собралась вся старшина на последнюю решительную раду. Здесь сошлись: Богун, Чар- нота, Золотаренко, Кривонос, Дженджелей, Тетеря, отец Иван и другие; Ганна была тоже приведена братом. Лица всех старшин были мрачны и сосредоточенны. Кривонос сидел грозный, скрестивши свои руки на сабле и опершись на них подбородком. Глаза его глядели из-под косматых бровей куда-то вдаль, на суровом лице лежал отпечаток глубокой душевной муки. Ганна тоже молчала, но темные глаза ее горели непобедимым воодушевлением и энергией.
Все молчали; но вот Богун окинул собрание орлиным взглядом и начал свою речь:
— Панове товарыство, славная старшина! Не на веселую раду собрались мы теперь, но и не на сумную. Эх, когда бы мы сами были, без этого поспольства, еще бы посмотрели, кто ушел бы отсюда победителем! Ляхи уже трусят: они подозревают, что мы недаром отсиживаемся, а приготовили им западню! Я пустил чутку, что Хмельницкий с ханом уже возвращаются и ударят на них с двух сторон. И вот сегодня уже панские хоругви зашевелились... Многие уйдут восвояси, домой... Эх, кабы теперь их пугнул кто в затылок хоть с жменей удальцов, — лишь бы пугнул, а мы бы отсюда жарнули, да будь я собачий сын, коли б не тряхнули так ляшков-панов, что стало бы жарко самому Яреме! Если бы послать кого на литовскую границу за Кречовским, — продолжал Богун, — а то собрать хоть зграю охочекомонных... И все бы это можно, да вот смущает меня это поспольство, — много при нем всякой жоноты, даже с грудными детьми. Не привыкли они к бранным потехам, не окурились добре порохом, а потому и страшатся все через меру, да, кроме того, эту толпу может всякий сбить с толку, как неразумную дытыну. Вот разошлись они видимо спокойно и дали слово кориться, а я уверен, что лихие люди их разбили теперь на кучки и торочат, что лучше все-таки выдать старшину панам-ляхам, — они-де за это пощадят их жен и детей.
— Проклятье! — зарычал Кривонос, стукнувши с силой саблей о землю. — Они погубили Гуню, они погубят и нас, и всю Украйну! Пусть будет проклят тот день, когда мы их приняли в свой лагерь!
— Стой, друже, — прервал его Богун. — Итак, панове товарыство, согласны вы со мной, что оставаться здесь в таборе вместе с этой беспокойной толпой безумно?
Все молчали.
— Значит, нельзя. Теперь еще, — обратился Богун к Дженджелею, — что твоему посольству ответил король?
— Что? Да песий гетман Потоцкий не допустил его и на яснейшие очи!.. Он и прежнее посольство прогнал и кричал, что о Зборовских пунктах не может быть и речи, что мы только должны молить их о своей жизни и своих шкурах — не больше, что должны беспрекословно и прежде всего положить все оружие, сдать все пушки, обязаться выдать гарматы со всей Украйны и ждать, как рабы, ласки.
— Каты, аспиды, изверги! — скрежетал зубами Кривонос.
— Да кто же согласится на такой позор?.. Умереть — и баста! — промолвил совершенно спокойно Чарнота.
— И умрем! — послышался отклик старшины, словно эхо.
— А сегодня, — продолжал Дженджелей, — так он хотел всех послов посадить на пали и кричал, что не выпустит из лагеря ни единой живой души, что нашим падлом будет кормить своих гончих собак, что у бунтарей прав нет, что все украинцы — презренные рабы панства и что теперь почувствуют наши дети, какие у панов канчуки.
— Не дождутся, ироды! — ударил Кривонос перначом по столу так, что доска его расщепилась.
— Стой, батьку Максиме, успокойся трохы! — улыбнулся на этот порыв Богун. — Значит, очевидно, что и ляхи нас добровольно из этой пастки не выпустят... Так надо, стало быть, нам самим вывести и войско, и толпу.
— Как? Куда вывести? С трех сторон оточили ляхи! — раздалось сразу несколько голосов.
— А четвертая?
— Болото!
— Хе! Для козака скатертью дорога! — прищелкнул языком молодцевато Богун. — Мы проложим плотины...
— Чем? Как?
— А вот выслушайте меня, друзи, и если все будет исполнено так, как я задумал, то я ручаюсь вам, что мы спасем все войско и истребим ляхов! — заговорил Богун. — Плотины мы намостим; все, что есть у нас, — кунтуши, сукна, мешки, кереи, ратища, полудрабки, — все пойдет в дело... Только надо мостить так, чтобы не узнал никто из поспольства, иначе пропадет все. Для этого мы выберем самых верных козаков, а чернь займется на целый день какой-нибудь работой. Ночью выведем все войско. А меж возов везде натычем на шестах густо ряды шапок и керей, чтобы сдалось ляхам, что это козаки за ними чатуют, да оставим еще один полк отважнейших козаков, чтобы слегка заигрывал с ляхами и пулями, и картечью. Когда же выведем все войско, переведем помалу и поспольство, — ляхи не будут знать ничего. Мы дождемся ночи, зайдем в тыл и тогда с криками: «Слава Богдану, слава гетману!» — бросимся на ляхов.
— А я останусь здесь со своими завзятцами, — вспыхнул восторгом Чарнота, — и отсюда на них ударю!
Одобрительные восклицания посыпались отовсюду. Собрание оживилось. Лица всех загорелись надеждой, воодушевлением, верой. Даже Тетеря принял в общей радости самое искреннее участие, хотя в глубине души замышлял что-то недоброе.
— Богуне, брате, и я останусь здесь с Чарнотой, — подошла к Богуну Ганна.
— Нет, Ганно, ты выйдешь вместе с нами и заберешь раненых, — ответил ей Богун, смотря с восторгом на ее воодушевленное мужественное лицо. — Нам нужны теперь преданные и отважные люди, — нам нужно отыскать гетмана, выкупить его, если он в плену, нужно поднять кругом весь народ.
— Прав, брате, — ответила Ганна, — ты указываешь нам выход, и мы все должны костьми лечь, где укажешь, — каждая минута несет нам спасение или погибель!
Настал день, туманный, темный; целый день копало поспольство, не отдыхая, под надзором Чарноты новые высокие валы. Козаки отстреливались слабо и лениво. Какие-то фигуры на возах с обмотанными тряпками колесами подвозили беспрерывно к болоту горы шелковых жупанов, мешков с хлебом, сена, лишнего оружия, побитых частей возов и всего, что только было возможно; все это снималось с возов и осторожно, без шума погружалось в воду. Другие рубили лозу, делали из нее фашины; и к вечеру три зыбкие плотины были уже готовы.
Темная сырая ночь покрыла весь лагерь козацкий тяжелым покровом. Утомленная чернь, которой Чарнота велел поднести за тяжелую работу по стакану водки, заснула мертвым сном. Все тихо, неподвижно, мертво. Только за табором, у болота, идет какое-то безмолвное движение. Словно ночные призраки, тянутся без перерыва через болото ряды колеблющихся темных фигур. Обмотанные в тряпки лошадиные копыта издают слабый, глухой звук. Кругом ни слова, ни крика...
Утомленное поспольство проснулось поздно и стало лениво подниматься. Заволакивавший окрестности туман скрадывал время. Был день святых Петра и Павла *. Расставивши аналой, отец Иван с оставшимся в лагере духовенством начал служить торжественную обедню, а Чарнота между тем распорядился, чтобы по случаю торжественного дня выкатили черни несколько бочек горилки да готовили всем праздничный обед. Вскоре по всему лагерю затрещали веселыми огоньками костры, задымились котлы, полные жирного мяса, распространяя вокруг себя аппетитный аромат. Все было спокойно. Рассевшиеся у костров крестьяне начали мирно разговляться. Чарнота и отец Иван не уходили с площади. Тайный посол сообщил им, что уже больше половины войска перебралось на тот берег и Лянцкоронский отступил, оставалось только вывести эту беспокойную чернь.