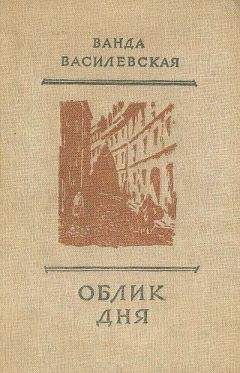Грозная, непостижимая радость, высшее человеческое счастье. Ах, руки, которым годами не за что было ухватиться! Теперь они держат крепко, крепко. Глаза, полуослепшие от мрака! Как поразительно ясно видят они теперь во всю длину улицу и дальше! Как ясно видят они сияющий свет встающего дня. Как широко расправляются согнувшиеся плечи, как глубоко вдыхают воздух съеденные туберкулезом легкие! Вихрь счастья вздымает волосы на голове. За все, за все времена!
Опущенные шторы магазинов, занавешенные гардинами окна. Эхо далеко разносит отзвуки залпов. И вдруг ни с того ни с сего под самый пулеметный обстрел выезжает подросток на велосипеде. На руле цветущие ветви. Изумленно поднимает голову. В больших круглых глазах одно безграничное удивление.
Но всего на один миг. И сразу, с жестяным звуком упавшего велосипеда, валится на землю. Лицом в цветущие ветки.
Из наскоро организованного перевязочного пункта выскакивают люди с повязками на рукавах. Поднимают. Под ним уже широкая красная лужа. Быстро, умело перевязывают длинными бинтами, поглядывая только, не поворачивает ли в их сторону слепой, равнодушный броневик, сметающий на пути все живое. На носилки. Но не успевают они пройти и нескольких шагов, как белая марля на животе набухает кровью. Через минуту она протекает. За носилками на мостовой — кровавый след, узкая струйка крови.
Броневик поворачивается. Широким взмахом, огромным полукругом косит он, от стены до стены, оба тротуара и мостовую.
Запертые ворота не поддаются натиску десятков рук. Не расступаются каменные стены. И вдруг, в диком инстинкте отчаяния — вперед! Прямо на слепое, закованное в сталь чудовище. Десятки, сотни обезумевших рук. Собственным телом на бойницу. Броневик молкнет. И вот — красный лоскут, маленькое красное полотнище, водруженное на башне. Возглас толпы — броневик захвачен. На броневике развевается красный лоскут — знамя.
Поперек узкой улички опрокинутая телега для перевозки мебели, свалены грудой доски, в промежутках мешки с мукой, вытащенные из соседней булочной.
Беспорядочные, отрывистые, огрызающиеся выстрелы.
И Веронка. В слепом, безумном порыве — вперед. В этот священный час с нее слетает все, что было в ней от шлюхи, что кошмаром дней уличной девки легло на ее льняные волосы, на ясные глаза удивленного ребенка. Теперь это снова прежняя Веронка, счастливая возлюбленная Эдека в зеленый весенний день. Ветер радостный, чистый ветер развевает волосы надо лбом. С полураскрытых губ стерто липкое клеймо омерзительных поцелуев. Высокая, огромная гремящая песнь несет ее на шумных крыльях. Быстро, легко, по сваленным в кучу столам, по изломанным прилавкам перепрыгивает она на ту сторону баррикады.
За ней сквозь брешь в баррикаде несутся другие. Как неудержимый горный поток. Слезы восторга, слезы счастья градом катятся по щекам. В этот священный час.
И дальше. Плечом к плечу. Хмурое, желтое лицо Юзека, горящее огнем страсти. Из-за струящейся крови сверкают глаза. Нет, это уже не тот молчаливый человек из судебного зала, не сорвавшийся с виселицы убийца. В этот священный час его несет крылатая, многоголосая, громовая песнь, несет по широким улицам города, расцветающим красной кровью искупления. В красное пламя превращается мрак тюремной камеры, раздвигается тьма детства, уходит, растворяется в ярком свете его тяжкая доля, падают с ног оковы нищеты.
Широко, широко расправляются свободные плечи. Глубоко вдыхают легкие воздух свободы, колеблемую песнью лазурь. Сваливается бремя с плеч, лицо расцветает сияющей улыбкой. Глаза улыбаются далекому небу, цветущей земле. Не болят опухшие от вечного стояния у станка ноги. Пружинят ослабевшие без работы мускулы рук. Тысячей красок, сверканий, блеска озаряется священный час.
Мать в этот день, по обыкновению, у обедни. Перед младенцем Иисусом в золотых ризках. Ведь надо молиться за Анатоля.
Но молиться она не может. Старое сердце пронзает вдруг страх. Мысли в смятении путаются. Что-то слышно оттуда? Нет, так только кажется под сумрачными сводами костела. Тихонько теплится огонек в красной лампадке. Розовые отблески на золотых ризках младенца Иисуса. Подвижные тени в» нишах алтаря. Из людей — никого. Она одна пред лицом бога. И все же не может молиться. «Грех», — говорит она себе, когда непослушные мысли устремляются домой, к Анатолю. Но Анатоля ведь уже нет дома. Сорвался ни свет ни заря и понесся в город. Что только будет, боже милостивый! Что только будет?
Но теперь и вправду что-то слышно. Будто кто сыпнул горохом о стенку. Раз. Еще раз. Теперь раздается быстрый, равномерный грохот.
Она выскакивает из костела. Улица почти пуста. Ворота и подъезды на запоре. Люди бегут по двум направлениям. Рабочие, женщины в платочках — по направлению к городу. А сюда, украдкой, вдоль стен, пугливо озираясь через плечо, — господские шляпы, приличные пальто, тросточки. — О господи, о господи! — лихорадочно твердит она, устремляясь вслед за другими. Слышно все отчетливее. Нет, это не горох сыплется о стены…
— О боже мой, боже мой! — бессознательно шепчут губы.
Там уже толпа. Сердце рванулось и замерло. Вот оно! Вот оно! — колотится испуганное сердце.
— Чего тебе там, бабка? Назад!
Нет, нет. Она силком протискивается сквозь сбившуюся толпу. К Анатолю. Там же Анатоль!
Высоко над толпой светлая голова. Словно знамя. И мать сразу успокаивается. Анатоль.
Ей уже нет дела до выстрелов. Она следит глазами за сыном, за этой возвышающейся над всеми белокурой головой. Даже сюда доносится его голос резкими, отрывистыми звуками команды. Она не хочет бежать. Но ее увлекают за собой. Она неохотно бежит, не в силах противиться волне. И, как только возможно, поворачивает обратно. Впрочем, и другие тоже.
За убитой лошадью лежит юноша. На плече кровь. Мать спокойно перевязывает плечо платком, поднимает, поддерживает, ведет в ворота, где суетится бледный, как стена, врач. Мимолетно ловит ясный взгляд Анатоля. Улыбается, чтобы успокоить его. Ничего, она справится. А место ее здесь, возле сына.
И так уж весь день. Она помогает перевязывать раненых, носит воду, собирает рассыпавшиеся патроны. И лишь раз ее охватывает страх, — когда из ворот выводят взятых в плен полицейских. К ним бросается гневная толпа.
Мать закрывает глаза, чтобы не увидеть. Но нет, ничего не случилось. Ведь это священный, священный час!
Мельком она замечает Наталку.
— Что ж ты, цыпленок… — начинает было она.
Но глаза Наталки пылают, как факел, вздымающим к нему огнем вдохновения. Лицо сурово. Губы крепко сжаты. Неужели это она, тихая, замкнутая Наталка?
И на всех лицах мать с изумлением видит то же. Пламя, смывающее все обыденное, серое, злое. Жаркое зарево, счастье освобождения. И она чувствует, что и сама уже не та, замученная трудом, забитая жизнью, молящаяся перед младенцем Иисусом, женщина. Что и ей расправляет морщины, наполняет ее силой, заливает теплой волной счастья священный час. И лишь сейчас она знает, на что был нужен труд ее долгих дней. Вот и заработали руки, выплакали глаза, вымолило утомленное сердце!
— Анатоль, Анатоль…
Светлая голова над толпой. Суровый, повелительный, призывающий голос. Горящие счастьем глаза.
И тихо, с благодарными слезами на глазах ей думается: «Не помешала, не сбила с пути, не отдалила священный час».
Виктор у аппарата. Стучит, стучит, нетерпеливыми пальцами выстукивает на все четыре стороны, — всем, всем, всем! — радостную весть. Еще. И еще раз. Аппарат вздрагивает под руками в такт песни. И издали, издали, со всех сторон несется ответ. С разгоревшимися лицами, дрожа от счастья, в огне энтузиазма он выбегает на улицу:
— Товарищи!
И снова высоко над толпой появляется Анатоль. Вихрем несутся над людьми его слова. Потом Юзек. Потом Веронка. Но голос замирает на ее губах, когда вдруг, у самых своих ног, она замечает Эдека, видит золотые искорки в его глазах. И знает: прошло, миновало все злое, дурное, темное. Широкой, шумной волной покатится новая жизнь. Да и как тут говорить? Горло сжимается в радостной спазме, глаза заливает струя счастливых слез. Разве, как Виктору, одно только слово:
— Товарищи!
И так уже все знают.
И только одно:
— Товарищи!
И все сказано. Счастье и торжество, радостная весть, безграничный порыв восторга.
Не печалят даже умершие. Они спокойно лежат длинными рядами. Смотрят невидящими глазами в небо. Их не унесла черная, бессловесная, мрачная смерть трудящегося человека. Они погибли смертью борцов в занимающейся заре, в пурпурном зареве. С сердцем, преисполненным счастья.
«В священный час», — думает мать, и губы ее впервые не складываются в молитву. Да и зачем? Ведь она своими глазами видела встающий день.
Анатоль идет по городу. Заглядывает повсюду. В переулке, у стены, кто-то лежит. Скорчившись, как раздавленный червяк. Лицом вниз. Анатоль осторожно поворачивает его.