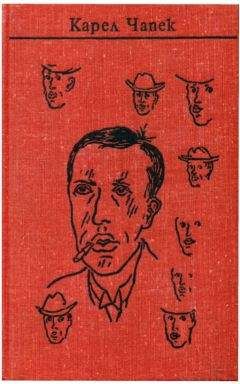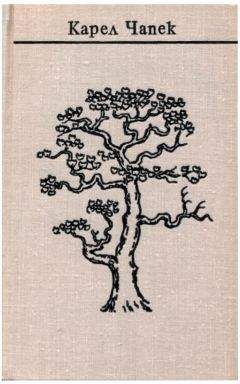— Никогда здесь не бывал, — ответил Пилбауэр.
— А как попадете на место?
— Согласно приказу.
Снова воцарилась тишина. Евишек начал было напевать, но перестал: ему импонировало, что он идет бок о бок с сыщиком, — и проникся важностью момента.
— А усы у вас — фальшивые? — неожиданно сорвалось у него с языка.
— Нет, зачем же? — удивился невозмутимый полицейский.
— Значит, вы не переодеты?
— Нет, это я сам и есть, — скромно ответил сыскной агент.
Евишек тотчас проникся симпатией к этому печальному и тихому человеку.
— Это трудно — быть детективом?
— Нет, все зависит от характера. Вы, наверное, музыкант? Это куда более легкое занятие.
— О нет, не верьте, — воскликнул Евишек. — Вот нынче, например… писал я, что называется, большую вещь… квартет… И зашел в тупик. Не знаю, что писать дальше. Мелодия ускользнула.
— Надо идти по следу, — заметил детектив.
— О, художники идут по следу, они вечно ищут. Всю жизнь. А я вот выдохся. Оттого и пошел с вами, чтоб немножко забыться, отдохнуть.
— А я думал: вы из любопытства, как тот, другой.
— Да нет, я, собственно, пошел безо всякого интереса. Надеялся увидеть что-нибудь этакое необыкновенное, волнующее. Иногда необходимо потрясение… Ах, берите меня с собой почаще!
— С моим удовольствием, — серьезно сказал детектив, — но только если будет приказано. Без приказа лучше не ходить. Это нехорошо — преследовать человека.
У Евишека заговорила совесть.
— Но ведь это убийца, — защищался он.
Детектив кивнул.
— Да, нехорошо упустить такого человека.
— Что же хорошо?
— Ничего. Все одинаково нехорошо. Плохо бить и не бить, осуждать и прощать. На всякое добро есть столько же худа.
Евишек задумался.
— А что, собственно, вы делаете?
— Только то, что обязан. Самое разумное — слушаться. Подчиняться приказу.
— А тот, кто приказывает?
— Плохо делает, сударь. Приказывать нехорошо, это самое страшное из всех заблуждений.
— И все же — подчиняться необходимо?
— Разумеется. Что это за приказ, если ему не подчиняются.
— Вы, верно, не могли бы заниматься искусством, — удивился Евишек.
— Нет, — ответил детектив. — Искусство чересчур своевольно.
— О нет, искусство тоже имеет правила, которые надо соблюдать.
— Приказы?
— Нет, это не приказы.
— Ну вот видите, — буркнул Пилбауэр.
Евишек был в замешательстве; ему пришли на память неуверенность, сомнения, что мучили его в творческих поисках; несравненно легче стало бы на душе, если бы некий высший глас просто приказал — что и как… Отдаленно и мелодично зазвучал вдруг в ушах мотив некоего высшего гласа. Неслышно побрел Евишек за высоким, угрюмым человеком, который абсолютно безошибочно находил в потемках дорогу, незнакомую прежде, в то время как он, Евишек, местный житель, без конца путался, спотыкался, отыскивая поворот, которого тут не было, либо тропу в тех местах, где первый же шаг грозил падением со скалы.
«Как они в себе уверены, — думал он. — Славик, с его жаждой познания, комиссар, который имеет право приказывать, — какою уверенностью наделяет человека власть! И Пилбауэр, исполненный покорности. Как они уверены в себе, один я все не обрету покоя… Красота гонит от меня сон и лишает спокойствия; никогда, никому не сообщает она уверенности…»
«Лучше уж быть детективом, — мелькнула в голове Евишека тоскливая мысль, — и если уж искать, то, по крайней мере, что-нибудь сверхъестественное, что ускользает от внимания человека! Да ведь и я, — сообразил он, — всегда в погоне, то тут, то там натыкаюсь на след или слышу отзвук; ах, вечно удаляющийся отголосок чего-то совершенного! Словно голос поющего ангела…»
— Что это вы поете? — внезапно прозвучал вопрос Пилбауэра.
Евишек вздрогнул, его словно обдало жаром.
— Я пою?
— Да, вы пели. Себе под нос. Что-то очень красивое.
Евишека залила новая, радостная волна.
— В самом деле? Спасибо! А я и понятия не имел. И что же я такое пел?
— Пели… гм… не помню уж. Всякий раз по-новому… Теперь уж и не знаю. Только что-то очень красивое.
Они подходили к вершине горы.
Евишек уже не напевал и не раздумывал. Пилбауэр молча, уверенно шел впереди.
— Кто-то бежит, стойте, — внезапно прошептал он. Евишек напряг слух, но услышал лишь, как органом гудели горы.
— Тихо! — повторил сыщик.
Разрывая потоки дождя, гигантскими прыжками пронеслась перед ними огромная человеческая фигура и исчезла во тьме. Потрясенный Евишек онемел и припустил за ним, подталкиваемый неким древним охотничьим инстинктом. Пилбауэр побежал было следом, но мгла поглотила обоих, и он, махнув рукой, направился к хижине.
Меж тем дождь прекратился, и горные вершины окутала мгла. Небо расчистилось, и от лунного света густая пелена тумана стала молочно-белой, бескрайний простор окутала мягкая, почти сладостная тишина.
Евишек со всех ног бежал за стремглав уносившимся от него человеком; это безумное петляние по верху горы было молчаливым и упорным. У Евишека не хватало дыхания.
— Не могу! — выдохнул он и остановился.
— Я тоже не могу, — прозвучал из тумана гулкий голос.
Евишек опустился на камень, с трудом переводя дух.
— За больным охотитесь, — громко прохрипел голос. — Выгнали из постели, лишили крова. Неужто вам этого мало? Мало вы мне зла причинили?
— Вы больны? — воскликнул Евишек.
— Чего вам еще нужно? — сетовал голос. — Это не по-людски! Отвратительно! Оставьте меня наконец в покое!
— Идти вам некуда! — воскликнул встревоженный Евишек. — Вас наверняка схватят. Гора окружена.
— Неужто вас так много? — проговорил голос с беспредельной горечью. — Какой стыд! Что же теперь делать? Господи, что же мне теперь делать?
Евишек оцепенел в мучительном смятении.
— Господи Иисусе! — жаловался голос. — Что делать? Гора окружена… Господи Иисусе.
У Евишека стало вдруг светло и ясно на сердце.
— Дружище, — неуверенно начал он.
— Что делать… — трепетал во мгле голос. — Я пропал! Пропал! Пропал! Господи, неужто это возможно, — и как ты допускаешь такое, господи!
— Я вам помогу! — торопливо воскликнул Евишек.
— Выдать задумал, — простонал голос. — Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя… воля твоя. Дай мне уйти! Дай мне уйти, господи!
Тут почувствовал Евишек скорбь, восторг, вдохновение, ужас — любовь и боль, радость, слезы и страстную мужественность; и поднялся он, содрогаясь, и произнес:
— Пойдемте, они сторожат только дороги. Я проведу вас, не бойтесь.
— Не подходите! — выкрикнул голос.
— Я провожу вас. Не бойтесь меня. Где вы?
— Господи Иисусе! — запинаясь от страха, проговорил голос. — Не хочу, ничего от вас не хочу!
Евишек увидел перед собой бесформенную тень, и горячечное дыханье обожгло ему лицо.
— Оставьте меня! — прохрипел голос, чья-то рука коснулась его груди, и внезапно, сделав несколько скачков, тень растворилась во мгле.
Комиссар грыз ногти на пороге хижины. Славик подошел к нему.
— Пан комиссар, — начал он, — я думал о нашем деле. Вы слышали свидетелей; все говорили о нем как-то странно. Словно бы он вырастал у них на глазах. Он разрастался до бесконечности. Своеобразный гипноз.
Комиссар поднял утомленные глаза.
— Вероятно, гипнотическое действие производит его поведение, — продолжал Славик. — Оно ошеломляет людей. Это безумец, страдающий манией величия. И этим все объясняется.
Комиссар покачал головой и опустил веки.
Отряд цепью развернулся во всю ширь плоской горной вершины. Человек десять — двадцать. Тянутся не спеша, молча, с опутывающей механистичностью. Порой лишь тихонько бряцало оружие. Комиссар разжал сомкнутые зубы. Я устал, слишком устал. Нет сил идти дальше.
Он прислонился к дереву и закрыл глаза. От усталости почувствовал себя совсем маленьким. Идти дальше нет сил. «Так что же? Вот уж ты и устал, шалопай? — неожиданно прозвучал голос отца. — Иди сюда, садись на закорки». Ах, сынок ничего иного и не желал. Спина у отца широкая, словно у великана; сидишь высоко-высоко, как на коне.
Дорога убегает вдаль. От отца исходит запах табака и ощущение силы. Словно он великан. И нет в мире никого сильнее, чем он. Застонав от прилива нежности, мальчонка прижимается щекой к его влажной бычьей шее.
Комиссар очнулся. Я устал. Если бы я мог сосредоточиться! Сколько, например, семь умножить на тринадцать? Начал считать, наморщив лоб и шевеля губами. Ничего не получалось. Он без конца твердил оба эти числа. Они почему-то особенно противные, никак не поддаются счету, ни на что не делятся. Самые скверные из чисел. Комиссар в отчаянии бросил считать.