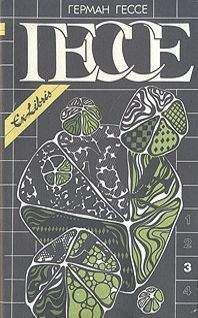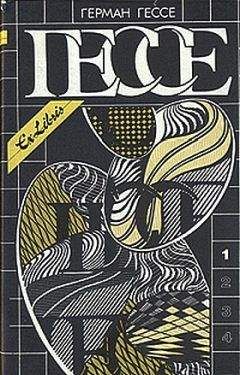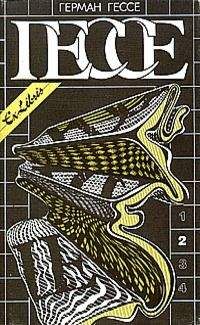— Таковы уж вы, — сказала она наконец голосом, полным ненависти и презрения, — таковы уж вы, христиане! Сначала ты помогаешь дочери хоронить отца, которого убили такие же, как ты, не стоящие и ногтя на его мизинце, а едва дело сделано, девушка должна принадлежать тебе и идти миловаться с тобой. Вот вы какие! Сначала я подумала, может, ты хороший человек! Да уж, хороший, как бы не так! Ах, свиньи вы все!
Пока она говорила, Гольдмунд увидел, что в ее глазах за ненавистью что-то пылало, тронувшее и пристыдившее его и глубоко проникшее к нему в сердце. Он увидел в ее глазах смерть, не неизбежность смерти, а стремление к ней, ее дозволенность, тихую послушность и готовность следовать зову земли-матери.
— Ребекка, — сказал он тихо, — ты, возможно, права. Я нехороший человек, хотя думал сделать как лучше. Прости меня. Я только сейчас тебя понял.
Сняв шапку, он глубоко поклонился ей, как царице, и пошел прочь с тяжелым сердцем: он вынужден был бросить ее на погибель. Долго еще он оставался в печали, ни с кем не желая разговаривать. Это гордое еврейское дитя напомнило ему чем-то Лидию, дочь рыцаря, как ни разительно было их несходство. Любить таких женщин было страданием. Однако какое-то время ему казалось, будто он никогда не любил никого, кроме этих двух: бедной боязливой Лидии и нелюдимой ожесточенной еврейки.
Еще не один день думал он о черноволосой пылкой девушке и не одну ночь мечтал о стройной обжигающей красоте ее тела, предназначенной, казалось, для счастья и расцвета и уже, однако, преданной умиранию. О, неужели эти губы и грудь станут добычей «свиней» и сгниют в поле! Разве нет силы, нет заклятия, чтобы спасти эти драгоценности? Да, было одно такое заклятие: они должны продолжать жить в его душе, чтобы он изобразил их и тем сохранил. С ужасом и восторгом чувствовал он, как переполнена его душа образами, как это долгое странствие по стране смерти заполнило ее до отказа фигурами. О, с каким нетерпением ждала эта полнота в его душе своего часа, как страстно требовала спокойного осмысления, излияния и воплощения в живых образах! Все более пылко и жадно стремился он дальше, со все еще отверстыми глазами и жадными до нового чувствами, но уже полный страстной тоски по бумаге и карандашу, по глине и дереву, по мастерской и работе.
Лето прошло. Многие уверяли, что с наступлением осени или в крайнем случае к началу зимы чума прекратится. То была безрадостная осень. Гольдмунд проходил через места, где уже некому было собирать фрукты, они падали с деревьев и гнили в траве; в других местах одичавшие орды из городов по-разбойничьи опустошали и растаскивали все.
Медленно приближался Гольдмунд к своей цели, и как раз в это время на него подчас нападал страх: он опасался, что, не достигнув ее, подцепит чуму и умрет в какой-нибудь конюшне. Теперь он не хотел умирать, нет, пока не насладится счастьем еще раз стоять в мастерской и отдаваться творчеству. Впервые в жизни мир казался ему слишком огромным, а Германская Империя слишком большой. Ни один красивый городок не манил его отдохнуть, ни одна красивая деревенская девушка не могла удержать дольше, чем на одну ночь.
Как-то он проходил мимо церкви, на портале которой в глубоких нишах, несомых в виде украшения небольшими колоннами, стояло много каменных фигур очень древних времен, фигур ангелов, апостолов, мучеников; подобных им он уже видел не раз, и в его монастыре, в Мариабронне, было немало фигур такого рода. Раньше, юношей, он охотно, но без увлечения рассматривал их; они казались ему красивыми и полными достоинств, но слишком торжественными, чопорными и старомодными. Позднее же, после того как в конце своего первого большого странствия он таким восхищением проникся к фигуре прелестной печальной Божьей Матери мастера Никлауса, он стал находить эти древнефранкские торжественные каменные фигуры чересчур тяжелыми, неподвижными и чуждыми; он рассматривал их с определенным высокомерием и в новой манере своего мастера видел намного более живое, искреннее, одушевленное искусство. И вот сегодня, когда он, полный образов, с душой, иссеченной рубцами и заметами, возвращался из мира сильных переживаний и приключений, был полон болезненной тоски по осмыслению и новому творчеству, эти древние строгие фигуры вдруг тронули его сердце с необычайной силой. Сосредоточенный, стоял он перед почтенными фигурами, в которых, застыв в камне, тлену вопреки, продолжала жить душа давно минувших времен; столетия спустя представляли они страхи и восторги давно исчезнувших поколений. В его одичавшем сердце с ужасом и смирением поднялось и чувство благоговения, и отвращение к собственной растраченной и прожженной жизни. Он сделал то, чего не делал бесконечно давно: нашел исповедальню, чтобы покаяться и понести наказание.
Однако исповедальни в церкви были, но не было ни одного священника: они умерли, лежали в больнице, бежали, боясь заразиться. Церковь была пуста, глухо отражали каменные своды шаги Гольдмунда. Он опустился на колени перед одной из исповедален, закрыл глаза и прошептал в решетку: «Господи, посмотри, что со мной стало. Я возвращаюсь из мира дурным, бесполезным человеком, я попусту растратил свои молодые годы, как мот, осталось уже немного. Я убивал, воровал, я распутничал, я бездельничал и объедал людей. Господи, почему Ты создал нас такими, зачем ведешь нас такими путями? Разве мы не дети Твои? Разве не Твой Сын умер за нас? Разве нет святых и ангелов, чтобы руководить нами? Или все это красивые вымышленные слова, которые рассказывают детям, а сами пастыри смеются над ними? Я разуверился в Тебе, Бог Отец. Ты сотворил дурной мир и плохо поддерживаешь порядок в нем. Я видел дома и улицы, полные валяющихся трупов, я видел, как богатые запирались в своих домах или бежали, а бедные оставляли своих братьев непогребенными, подозревали один другого и убивали евреев, как скот. Я видел, как множество невинных страдает и погибает, а множество злых купается в благополучии. Неужели ты нас совсем забыл и оставил, разве Твое Творение Тебе совсем опротивело и Ты хочешь, чтобы все мы погибли?»
Вздыхая, прошел он через высокий портал и посмотрел на молчащие каменные фигуры ангелов и святых: худые и высокие, стояли они в своих одеяниях, застывших складками, неподвижные, недоступные, сверхчеловеческие и все-таки созданные людьми и человеческим духом. Строго и немо стояли они там высоко в своем малом пространстве, недоступные никаким просьбам и вопросам, и все-таки были бесконечным утешением, торжествующей победой над смертью и отчаянием, стоя вот так в своем достоинстве и красоте и переживая одно умирающее поколение людей за другим. Ах, если бы здесь стояли также бедная прекрасная еврейка Ребекка, и бедная, сгоревшая вместе с хижиной Лене, и прелестная Лидия, и мастер Никлаус! Но они будут когда-нибудь стоять и останутся надолго, он поставит их, и их фигуры, внушающие ему сегодня любовь и мучения, страх и страсть, предстанут позднее перед живущими, без имен и историй, тихие, молчаливые символы человеческой жизни.
Наконец цель была достигнута и Гольдмунд вступил в желанный город, через те же ворота, в которые прошел когда-то в первый раз — столько лет тому назад — в поисках своего мастера. Некоторые сведения из епархиального города дошли до него еще в пути, во время приближении к нему, и он узнал, что и тут была чума, а возможно, еще и не прекратилась; ему рассказали о волнениях и народных восстаниях и о том, что в город был прислан наместник императора, чтобы установить порядок и отдать необходимые срочные распоряжения для защиты имущества и жизни граждан, потому что епископ бежал, сразу после того как разразилась чума, и обосновался далеко за городом в одном из своих замков. Все эти сведения мало касались путешественника. Лишь бы город еще стоял и мастерская, где он собирался работать! Все остальное было для него неважно. Когда он прибыл, чума стихала, ждали возвращения епископа, радовались отъезду наместника и возобновлению привычной мирной жизни.
Когда Гольдмунд вновь увидел город, в сердце его хлынуло волной чувство родины, никогда ранее не испытываемое, и ему пришлось сделать непривычно строгое лицо, чтобы овладеть собой. Все было на месте: ворота, прекрасные фонтаны, старая неуклюжая колокольня собора и стройная новая — церковь Марии, чистый звон у Святого Лаврентия, огромная сияющая рыночная площадь! О, как хорошо, что все это ждало его! Видел же он, странствуя, как-то во сне, будто пришел сюда, а все чужое и изменившееся, частью разрушено и лежит в развалинах, частью незнакомо из-за новых построек и странных неблагоприятных знаков. Он чуть не прослезился, проходя по улицам, узнавая дом за домом. В конце концов и оседлым можно позавидовать: их красивым надежным домам, их мирной жизни обывателей, их покойному крепкому чувству родины, своего дома с комнатой и мастерской, с женой и детьми, челядью и соседями.