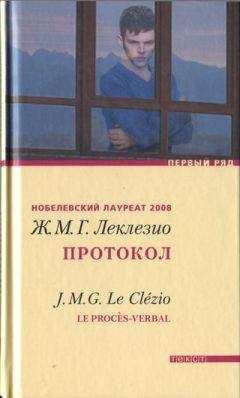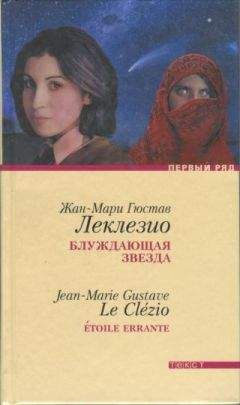Потом мы возвращаемся в лагерь. Никогда еще мы не разговаривали с ней вот так, мягко, тихо, не видя друг друга, сидя под большим деревом. Словно время перестало существовать, словно нет в мире ничего, кроме этого дерева, этих камней. Мы уходим далеко в ночь, и я устраиваюсь на земле, чтобы уснуть, положив под голову руку. Я жду, что Ума ляжет со мной. Но она продолжает сидеть неподвижно на своем месте, смотрит на сидящего в стороне на камне Шри, и их освещенные небом силуэты напоминают ночных часовых.
Когда солнце поднимается в небо над горами, я сижу по-турецки в палатке перед сундучком, что служит мне пюпитром, и рисую новую карту Английской лощины, нанося на нее все линии, соединяющие вехи, так что на бумаге мало-помалу проступает некое подобие паутины, шесть концов которой образуют гигантскую звезду Давида, сложенную из двух перевернутых треугольников «проушин» — на западе и на востоке.
Сегодня я больше не думаю о войне. Всё кругом кажется мне новым и чистым. Подняв голову, я вдруг вижу Шри: он смотрит на меня. Я не сразу узнаю его, приняв за одного из мальчишек с фермы Рабу, спустившегося сюда вместе с отцом для рыбной ловли. Но потом я узнаю его взгляд: дикий, беспокойный, но в то же время мягкий и сверкающий, он направлен прямо на меня. Я бросаю свои бумаги и иду к нему, не спеша, чтобы не вспугнуть его. Между нами остается шагов десять, когда мальчик поворачивается и уходит прочь. Он шагает не торопясь, перепрыгивая с камня на камень и то и дело оборачиваясь на меня.
«Шри! Иди сюда!» — кричу я, хотя знаю, что он не может меня слышать. А он уходит все дальше и дальше в глубь долины. Тогда я иду за ним, по той же тропинке, не пытаясь его нагнать. Шри легко вскакивает на черные камни, я вижу, как его тонкая фигурка будто танцует впереди меня, потом исчезает среди зарослей. Иногда мне кажется, что я потерял его, но он снова оказывается тут — в тени дерева или в углублении скалы. Я замечаю его вновь, только когда он снова принимается шагать.
Проходят часы, а я все иду за Шри через горы. Мы уже высоко, над холмами, на голых горных склонах. Я вижу под собой скалистые уступы, темные пятна пальм вакоа и колючих кустарников. Здесь же кругом голый камень. Великолепно синее небо. Пришедшие с востока облака плывут над морем, пробегают над долиной, бросая на нее мимолетную тень. Мы поднимаемся всё выше. Иногда я теряю своего проводника из виду, а когда снова замечаю его, легкого и быстрого, приплясывающего далеко впереди, то уже не могу с уверенностью сказать, что это не горная коза или дикая собака.
На какой-то миг я останавливаюсь, чтобы посмотреть на раскинувшееся вдали море. Таким я его еще никогда не видел — огромным, сверкающим в солнечных лучах жестким блеском, пересеченным длинной безмолвной бахромой рифов.
От холодного порывистого ветра у меня слезятся глаза. Чтобы перевести дух, я присаживаюсь на камень. Потом иду дальше, и мне становится страшно, что я потерял Шри. Прищурившись, я ищу его выше в горах, на темных склонах. А когда теряю всякую надежду отыскать, вдруг вижу его на другом склоне горы: вокруг толпятся дети, рядом — стадо горных коз. Я зову его, но, заслышав эхо моего голоса, дети разбегаются и прячутся вместе с козами среди камней и кустарников.
Я вижу здесь следы человеческого присутствия — выложенные из камней круги, наподобие тех, что я нашел в Английской лощине, когда впервые попал туда. Тут и там в горах виднеются тропы, они едва заметны, но за четыре года своей дикой жизни в Английской лощине я научился распознавать присутствие человека. Я собираюсь было спуститься на другую сторону горы, чтобы поискать детей, но тут вижу Уму. Она идет ко мне, ни слова не говоря, берет за руку и ведет на вершину утеса, туда, где площадка нависает над пропастью подобием крепостного гласиса.
На другой стороне горной долины, на безлесном склоне, по берегам высохшего потока виднеются хижины из камней и веток и крошечные поля, защищенные от ветра каменными изгородями. Залаяли, почуяв нас, собаки. Это деревня манафов.
— Туда тебе нельзя, — говорит Ума. — Как только появится кто-то чужой, манафам придется уйти дальше в горы.
Мы идем вдоль утеса к северному склону горы. Ветер дует нам в лицо. Внизу раскинулось бескрайнее темное море с белыми пятнами барашков. Восточнее сверкает бирюзой зеркальная гладь лагуны.
— Ночью отсюда видно городские огни, — говорит Ума. Она показывает на море: — А оттуда приплывают корабли.
— Как красиво! — я произношу это почти шепотом.
Ума садится, как обычно, поджав под себя ноги и обхватив руками колени. Ее темное лицо обращено к морю, ветер треплет волосы. Потом она оборачивается на запад, в сторону холмов.
— Тебе пора спускаться. Скоро стемнеет.
Но мы всё сидим, не шевелясь под порывами ветра, не в силах расстаться с морем — как две птицы, парящие высоко в небе. Ума молчит, но мне кажется, я чувствую все, что происходит в ней: ее желание, ее отчаяние. Она никогда не говорит об этом, но потому ей так и нравится ходить на берег — нырнуть в волны, доплыть со своей длинной острогой до самых рифов и, спрятавшись за камнями, смотреть оттуда на людей с побережья.
— Хочешь уехать вместе со мной?
От звука ли моего голоса или от моих слов, но она вздрагивает. Потом гневно смотрит на меня, глаза ее сверкают.
— Уехать? Куда? Кому я нужна?
Я подыскиваю слова, чтобы успокоить ее, но она резко говорит:
— Мой дед был беглый раб — как все черные беглые рабы с Морна. Он умер, когда ему раздробили ноги в мельнице для тростника — за то, что он ушел в лес с людьми Сакалаву. Тогда мой отец перебрался сюда, на Родригес, и стал моряком, чтобы плавать по свету. Моя мать родилась в Бенгалии, а ее мать была там певицей — она пела для Говинды. Куда мне ехать? Во Францию, в монастырь? Или в Порт-Луи, чтобы работать на тех, кто убил моего деда, кто покупал и продавал нас как рабов?
Я беру ее руку, она холодна, словно в лихорадке. Внезапно Ума поднимается и идет к западному склону, туда, где тропы расходятся в разные стороны, туда, где она только что меня поджидала. Лицо ее снова спокойно, но глаза все еще гневно сверкают.
— Тебе пора идти. Ты не должен тут оставаться.
Мне хочется попросить, чтобы она показала мне свой дом, но она уже, не оборачиваясь, идет прочь — спускается в темную долину, где стоят хижины манафов. Я слышу детские голоса, собачий лай. Быстро темнеет.
Я спускаюсь вниз по склонам, бегу меж колючих кустарников и пальм вакоа. Ни моря, ни горизонта больше не видно — ничего, кроме темной громады гор, уходящей все выше в небо. Когда я прихожу в Английскую лощину, становится совсем темно, идет тихий дождь. Я сворачиваюсь клубком в своей палатке под деревом, мне холодно и одиноко. И я начинаю думать о нарастающем грохоте разрушения, который, подобно громовым раскатам, разносится по всей земле, так что никто не может о нем забыть. В эту ночь я и решил уйти на войну.
В это утро у входа в расселину собрались все: Адриен Меркюр, высокий негр, наделенный геркулесовой силой, бывший foreman{16} на плантациях копры на Сан-Хуан-де-Нова; Эрнест Рабу, Селестен Проспер и юный Фриц Кастель. Узнав, что я нашел тайник, они тотчас примчались, бросив все дела, вооруженные лопатами и веревками. Если бы кто-нибудь увидел, как мы идем по Английской лощине — они в шляпах из пальмовых листьев с лопатами наперевес, я во главе процессии, обросший, в изодранной одежде, с перевязанной головой, — нас приняли бы за участников маскарада, изображающих возвращение Неизвестного Корсара со товарищи за своим сокровищем!
Прохладный утренний воздух бодрит нас, и мы дружно начинаем обкапывать базальтовые глыбы в глубине расселины. Земля, довольно рыхлая на поверхности, по мере того как мы копаем, становится твердой как камень. По очереди мы разрыхляем ее киркой, в то время как остальные выгребают и отбрасывают ее в сторону, в направлении широкого конца расселины. Именно в этот момент мне приходит в голову мысль, что вся эта земля и камни, наваленные у входа в расселину, которые я принял сначала за естественный завал, нанесенный водами высохшего горного потока, на самом деле есть не что иное, как следы, оставленные людьми Корсара, когда они рыли в глубине расселины тайники. И снова у меня появляется странное чувство, будто вся эта расселина — дело человеческих рук. Простую трещину в базальтовом утесе расширили, раскопали так, что она превратилась в ущелье, еще больше видоизмененное дождями за прошедшие почти двести лет. Такое же странное, почти пугающее ощущение должны, наверное, испытывать ученые, обнаруживая среди безмолвия и безжалостного света пустыни древние гробницы Египта.
К полудню основание самой большой глыбы подкопано таким образом, что хватит одного толчка, чтобы она покатилась на дно расселины. Все вместе мы наваливаемся на камень с одной стороны, и он откатывается на несколько метров, увлекая за собой лавину пыли и мелких камешков. Перед нами, точно в том месте, на которое указывает выдолбленный в камне на вершине утеса желобок, открывается зияющая дыра, еще наполовину сокрытая стоящим в воздухе облаком пыли. Не в силах больше ждать, я распластываюсь на животе и просовываюсь в отверстие. Через несколько мгновений мои глаза привыкают к темноте. «Что там? Что там?» — слышу я за спиной нетерпеливые голоса моих чернокожих помощников. Проходит довольно много времени, прежде чем я отползаю назад и выбираюсь из дыры. Голова у меня кружится, кровь стучит в висках и в венах на шее. По всей вероятности, и этот, второй, тайник пуст.