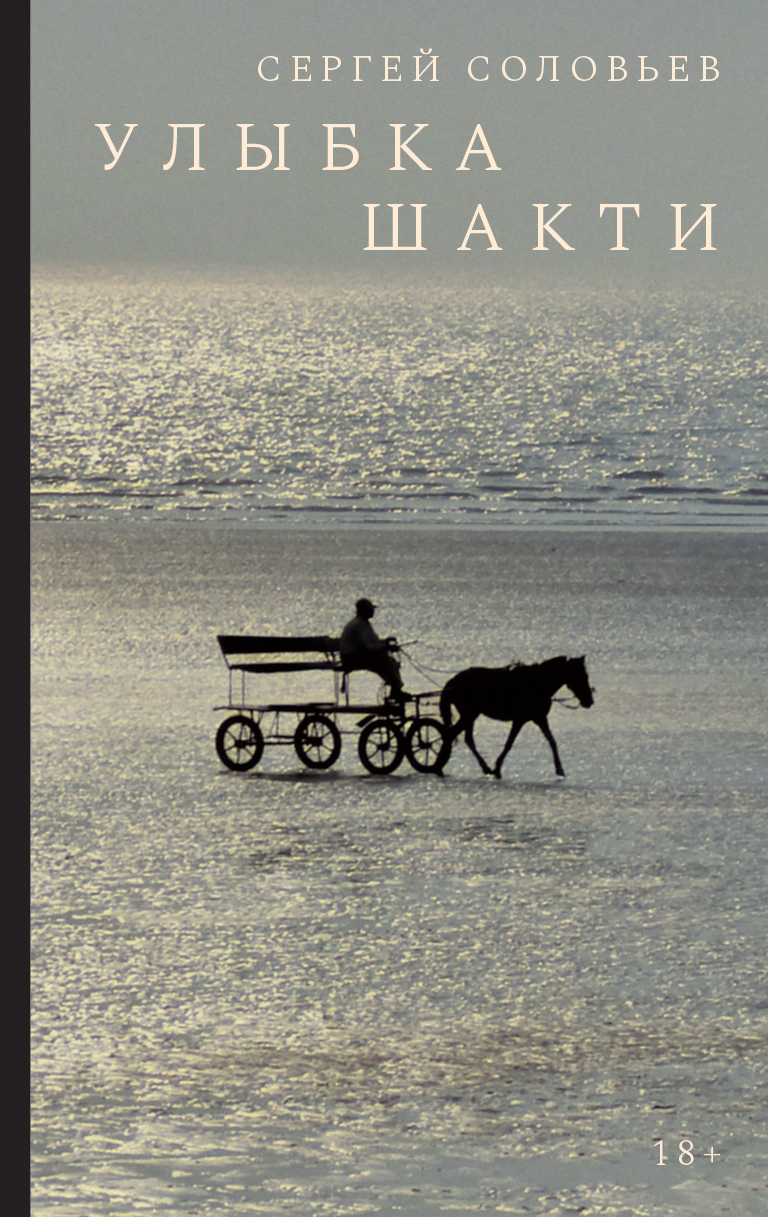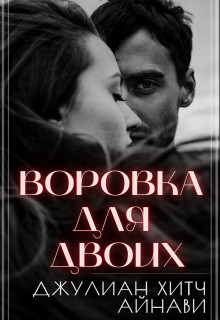в детской каморке с фосфоресцирующим потолком в виде звездного неба и многодетной семьей американцев за стеной. Ни детей, ни связи с ними. Сами дети, как потом выяснилось, тоже были лишены связи между собой, а семьи, которым их поручили, не очень понимали, что им делать с детьми. Еще и без языка, поскольку большинство семей было американских. Можно представить себе положение восьмилетнего ребенка, одного, оказавшегося после Чернобыля на другом конце света, вдали от родителей, в ночи, в чужой семье, говорящей на непонятном языке. Наутро я добрался до города, нашел главаря «евангелистов» по фамилии Мельник, и на вопрос о детях, получил ответ: не соваться не в свое дело, пока цел. Видимо, они уже успели сколотить свой символический капитал при запуске этой инициативы, а теперь, когда дошло до дела, решили умыть руки. Пошел в ближайшую газету. И тут все завертелось так, что и не приснится. Месяц я, то есть эта все более накалявшаяся история, не сходила с первых полос, наряду с войной в Бенгальском заливе и Бушем. На каждое наше публичное действие евангелисты отвечали все изощренней. Меня выкрали и бросили у безлюдного океана, выбирался я оттуда на частном самолете, прилетевшем за мной из Канады и нашедшем меня по костру на берегу, потом мы кружили над городом, я давал интервью ТВ, а камеры показывали нас, кружащих в небе. Потом приезжали какие-то переговорщики из Конгресса, сулили туманно многое. А поутру я находил надписи на доме, в котором жил: остановись, плохо кончишь. К тому времени меня уже узнавали на улицах. Я переселился к владельцу автоколонны, которая, как он сказал: если что – в твоем распоряжении. Позвонили с атомной станции, предложили бесплатное медицинское обследование детей, автобусный парк обеспечил перевозку, потом успелось и многое еще, не говоря о веренице моих выступлений – в университетах и разных организациях, собраны были несколько миллионов долларов, отправлен корабль в Питер с гуманитарной помощью. Трудно поверить сейчас, как не со мной все это, да и было ли? А возвращались на тяжелом бомбардировщике с военного аэродрома, откуда позвонили после очередного моего интервью в газете и предложили решить проблему нашего перелета в Нью-Йорк. Смутно, но помню, как подсаживал детей в люк на брюхе бомбардировщика и руки американских десантников, подхватывающих их во тьме этого люка. В аэропорту Кеннеди выделили и оцепили посадочную полосу для нас.
Память выселена, как та чернобыльская зона, кто-то там бродит еще, живет. В полях превращений. Которые дышат, где хотят. И в прошлом тоже. А мы не можем без очертаний, без где, когда, что. А жизнь – состояния, меняющие свои узоры быстрее мысли. Они, состояния, по воздуху рисуют, а мы на песке. На песке книг, памяти, очертаний. Где Чернобыль, где Индия, где Люба Сирота? И тот ее мальчик, теперь уже тридцатилетний, бродящий по Зоне. И этот я, еще недавно на другом краю земли, в джунглях, высматривавший слонов.
Дед мой, в честь которого Лёньку назвали, как и больше века назад его родители назвали свой пароход, ходивший в Белорусии по Припяти, дед мой, промолчавший почти всю жизнь и оставшийся загадкой для всех, кто его знал, сидевший при Махно, Врангеле и красноармейцах, гонявший чаи с Циолковским в Калуге, прошедший без единой царапины войну – сапером, вернувшийся в звании капитана, совсем облысевший, но с прежними молодыми глазами, оставшимися такими до последних дней, когда подолгу стоял у окна, глядя в небо и вдруг вздыхая: о-хо-хо, скоро в космос… И переходил на латынь. Дед мой, Леня, родившийся в девятнадцатом веке, был сбит автокраном, шедшим в колонне из Чернобыля в те майские дни.
Здесь, в мюнхенской квартире, недавно искали с мамой его медаль «За взятие Берлина», так и не нашли. Лет двадцать назад пригласила меня знакомая аргентинка, танцовщица, поучаствовать в ее в спектакле «Обувь и облака», где я должен был играть русского солдата. Я надел военно-полевую форму и медаль деда, спектакль был в центре Мюнхена, возвращался поздним вечером, не переодевшись, ехал в трамвае, полном немцев, по тем улицам, где начинался фашизм. Примерно в том возрасте, когда дед брал Берлин.
Его и оставили там, в Берлине, на несколько месяцев после войны, назначив начальником одной из товарных станций, откуда шли на Восток товарные составы, груженые трофеями. Вернулся он налегке, с маленьким чемоданчиком, в котором был отрез крепдешина жене и дочери, пару перочинных ножей, перьевые ручки и карандаши.
Со стороны казалось, его просто нет, настолько был тих, незаметен, но в какие-то поворотные минуты жизни вдруг становился молниеносно решителен. Как уживалась в нем эта флегма с огнем – бог весть. Книги любил, карандаши и собак.
Не было у него собаки, но незадолго до его ухода появилась у меня. Когда умерла его вторая жена, он перебрался к нам. Сидел на подоконнике, по-мальчишески болтая ногами, радуясь псу. И мне, с которым произносил на несколько фраз больше, чем за всю свою жизнь. И со странной улыбкой поглядывал на маму, однажды сказав: не думал, что ты такая… Какая? – спросила она. Но ответа не дождалась.
Пес погиб ровно так же и на том же месте, как и месяц спустя дед. Я положил пса в рюкзак и поехал на электричке в пригород, закопал под костром в том лесу, куда часто ходил на ночевки с ним. А прах деда мы с мамой подселили в могилу его первой жены, которая двадцать лет ждала поручика, белогвардейца, ушедшего на фронт и не посмевшего перед тем прикоснуться к ней, а потом вышла замуж за деда, все еще как во сне. И родилась Майя. Легкая, солнечная, с редким даром жизни. Женька была во многом в нее.
В тот чернобыльский год и случился наш краткий роман с М. Жила она в военном городке под Киевом с мужем и годовалым сыном. Приезжала, учась в техникуме. И исчезла вдруг, я не знал, что она уже носит Женьку. Переехала в Венгрию. А через пять лет раздался звонок в дверь, и я увидел ее. Женька тут же взгромоздилась мне на руки, поймала за нос и не отпускала, так заразительно смеясь, что мы уже оба валились со смеху, и М. смотрела на нас, покачивая головой и улыбаясь.
А потом мы с Женькой сбежали в Крым, лет десять-одиннадцать было ей. Из Киева, где она жила с бабушкой и братом, пока М. с ее военным мужем обустраивались в Москве, куда его перевели по службе. Договорились с бабушкой, что она нас прикроет. Но М. все же узнала и вылетела в Симферополь, подняла милицию, они прочесывали прибывший поезд, а мы интуитивно вышли на одну станцию раньше и отправились в Коктебель. И были у нас чудесные дни с ночевками у моря на диких пляжах, и костры, и звезды… Но оказалось, М. не вернулась в Москву, а все еще искала нас на побережье. Пришлось вернуть ей Женьку – в условленном месте, как в фильмах про разведчиков.
За пару лет до смерти Женьки, когда ее отношения с тем оксфордским мусульманином уже накренились, писал ей, что вот, мол, хорошо бы нам с тобой наконец отправиться в Индию, что многолетний проект мог бы быть – делать сайт, где собрали бы все триста с лишним индийских заповедников, с описаниями, снимками, беседами с егерями. Может, и денежка нашлась бы с индийских берегов. Но все это было где-то в поле светлых фантазий и слов, да и не ладилась жизнь тогда в эту сторону ни у нее, ни у меня. Знал бы, хоть чуточку чувствовал, и все могло ведь сложиться по-другому.
Могло ли? Спокойно. Избыть