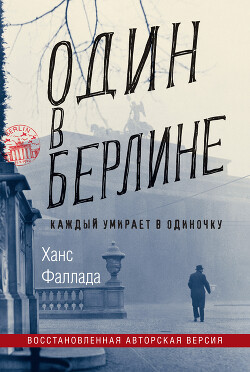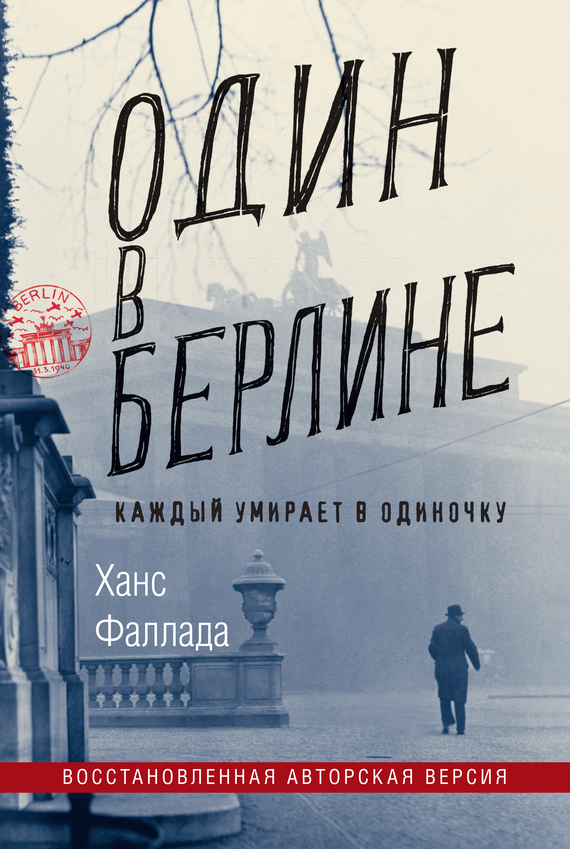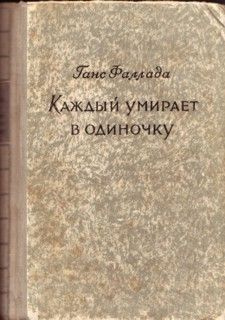Комиссар пожал плечами:
— Мало. Ничего. С некоторой уверенностью, пожалуй, можно допустить, что автор открыток не имеет постоянного места работы, ведь их находили в самое разное время дня, от восьми утра до девяти вечера. А с учетом количества народа на лестницах, которыми пользуется Домовой, надо полагать, каждая из открыток наверняка была найдена вскоре после того, как ее подбросили. Еще что? Он работает руками, в жизни писал мало, но в школе явно учился неплохо, орфографических ошибок почти нет, манера выражения не сказать чтобы нескладная…
Эшерих замолчал, оба довольно долго не говорили ни слова, рассеянно глядя на карту с красными флажками.
Потом обергруппенфюрер Пралль произнес:
— Крепкий орешек, Эшерих. Крепкий для нас обоих.
— Слишком крепких орешков не бывает — щелкунчик в конце концов любой расколет! — утешил комиссар.
— Заодно можно и пальцы прищемить, Эшерих!
— Терпение, господин обергруппенфюрер, немножко терпения!
— Главное, чтоб наверху потерпели, дело-то не во мне, Эшерих. Поработайте головой, Эшерих, может, придумаете что получше вашего дурацкого выжидания. Хайль Гитлер, Эшерих!
— Хайль Гитлер, господин обергруппенфюрер!
Оставшись один, комиссар Эшерих еще постоял возле карты, задумчиво поглаживая светлые усы. Дело обстояло не вполне так, как он внушал начальнику. В данном случае он был не просто полицейский, который прошел огонь, воду и медные трубы и которого уже ничем не проймешь. Его заинтересовал этот безмолвный, увы, еще совершенно незнакомый ему автор открыток, который, не щадя себя и все-таки очень осторожно, умно и расчетливо вступил в почти безнадежную схватку. Поначалу дело Домового было лишь одним из многих. Но мало-помалу Эшерих увлекся. Необходимо найти этого человека, сидящего, как и он, под одной из десятков тысяч берлинских крыш, необходимо встретиться лицом к лицу с этим Домовым, что еженедельно с регулярностью автомата отправляет ему на стол две-три почтовые открытки — вечером в понедельник, самое позднее утром во вторник.
Терпение, так усиленно рекомендуемое Эшерихом обергруппенфюреру, у самого комиссара давным-давно подошло к концу. Эшерих вышел на охоту — этот старый полицейский был настоящим охотником. Прирожденным. Он выслеживал людей, как другие охотники выслеживают кабанов. То, что и кабанам, и людям в конце охоты уготована смерть, его ничуть не трогало. Ведь кабан обречен на смерть, как и люди, пишущие подобные открытки. Он сам давно ломал себе голову, как бы поскорее подобраться к Домовому, и в понуканиях обергруппенфюрера Пралля не нуждался. Но так и не придумал, оставалось надеяться на терпение. Ради такого незначительного дела невозможно задействовать весь полицейский аппарат, обыскать каждую квартиру в Берлине — не говоря уже о том, что будоражить город никак нельзя. Словом, надо набраться терпения…
И если у него хватит терпения, что-нибудь непременно произойдет; почти всегда что-нибудь да происходит. Либо преступник совершает ошибку, либо случай играет с ним злую шутку. Вот их и надо ждать — случая или ошибки. То или другое происходит всегда либо почти всегда. Эшерих надеялся, что на сей раз обойдется без «почти». Он был увлечен, здорово увлечен. В сущности, его совершенно не интересовало, положит он конец действиям преступника или нет. Как уже сказано, Эшерих вышел на охоту. Не ради добычи, а потому, что сама охота доставляет удовольствие. Он знал: в тот же миг, когда дичь будет добыта, преступник схвачен и его деяния вполне доказаны, — в тот же миг весь его интерес к этому делу угаснет. Дичь поймана, человек в следственной тюрьме — охота завершена. Пора на следующую!
Эшерих отводит бесцветный взгляд от карты. Сидя за письменным столом, он не спеша, задумчиво ест бутерброды. Когда звонит телефон, опять же не спеша снимает трубку. И все еще вполне равнодушно выслушивает донесение:
— Докладывает полицейский участок Франкфуртер-аллее. Комиссар Эшерих?
— Слушаю.
— Вы ведете дело об анонимных открытках?
— Да. Что там у вас? Поживее!
— Похоже, мы взяли распространителя открыток.
— За распространением?
— Почти. Он, конечно, все отрицает.
— Где он?
— Пока у нас в участке.
— Держите его у себя, через десять минут буду у вас. И отставить допрос! Не теребите мужика! Я сам с ним потолкую. Ясно?
— Так точно, господин комиссар!
— Скоро буду!
Секунду комиссар Эшерих неподвижно стоит, склонясь над телефоном. Случай — добрый, благосклонный случай! Он же знал, надо потерпеть!
Затем стремительно отправляется на первый допрос распространителя открыток.
Глава 23
Полгода спустя. Энно Клуге
Спустя полгода механик по точным работам Энно Клуге томился в приемной у врача. В компании трех-четырех десятков других ожидающих. Вечно раздраженная помощница только что вызвала номер восемнадцатый, а у Энно — номер двадцать девятый. Придется сидеть еще час с лишним, а ведь его ждут в пивной «Очередной забег».
Энно Клуге не мог усидеть на стуле. Он хорошо знал, что уходить нельзя, надо получить больничный, иначе на фабрике будут неприятности. Но вообще-то и ждать он дольше не мог, иначе опоздает сделать ставки.
Так хочется пройтись по приемной. Но тут слишком много народу, на него ворчат. И он выходит в коридор, а когда докторская помощница, обнаружив его там, раздраженно требует вернуться на место, он спрашивает, где у них туалет.
Она весьма неохотно показывает, мало того, намерена подождать, пока он выйдет. Но тут несколько раз подряд коротко звонят у двери, и ей приходится встречать сорок третьего, сорок четвертого и сорок пятого пациента, записывать личные данные, заполнять карточки, штемпелевать бюллетени.
Так продолжается с раннего утра до позднего вечера. Она еле жива, врач еле жив, и постоянная раздраженность не оставляет ее уже многие недели. В этом состоянии она выплескивает накопившуюся ненависть на бесконечный поток пациентов, не оставляющих ей ни минуты покоя, они терпеливо стоят у дверей уже в восемь утра, когда она только приходит, и торчат в приемной еще и в десять вечера, наполняя помещение противными запахами, — сплошь бездельники, отлынивающие от работы, от фронта, люди, норовящие добыть справку, чтобы выцыганить продуктов, побольше и получше. Сплошь народ, норовящий увильнуть от своих обязанностей, а вот она так не может. Должна крепиться, не болеть (как доктор без нее обойдется?), должна быть приветлива с этими симулянтами, которые все кругом пачкают, загаживают, заблевывают! В туалете вечно все усыпано табачным пеплом.
Тут она вспоминает о мелком проныре, которому недавно показывала туалет. Наверняка так и сидит там, смолит сигареты. Она вскакивает, выбегает в коридор, трясет дверь.
— Занято! — кричат из кабинки.
— Будьте любезны, выходите! — бранчливо начинает она. — Думаете, можно часами здесь торчать? Другим тоже нужно в туалет! — И возмущенно бросает вдогонку испуганно уходящему Клуге: — Конечно, опять все задымили! Я скажу господину доктору, какой вы больной! Он вам покажет!
Приунывший Энно Клуге стоит в приемной, прислонясь к стенке, — его стул давным-давно занят. Врач тем временем добрался до номера двадцать два. Пожалуй, оставаться здесь бессмысленно. Эта чертовка вполне способна науськать врача, и тот вправду не даст ему бюллетень. И что тогда? Тогда ему ох как достанется на фабрике! Он сызнова уже четвертый день там не появляется; глядишь, они впрямь закатают его в штрафную роту или в концлагерь — за ними не заржавеет! Нет, хоть умри, надо сегодня получить больничный, и самое милое дело — подождать еще, раз уж он так долго здесь торчит. У другого врача народу не меньше, придется сидеть до ночи, а этот, как говорят, по крайней мере, на бюллетени не скупится. Ну а если он, Энно, не успеет нынче сделать ставки, значит, ничего не попишешь, обойдется без него…
Покашливая, он прислоняется к стене, замухрышка, недоразумение. Вернее, ничтожество. От взбучки, которую задал ему эсэсовец Персике, он полностью так и не оправился. Через день-другой работа, конечно, пошла лучше, хотя руки утратили былую ловкость. Кое-как тянул на середнячка-работягу. Никогда ему не вернуть давнюю сноровку, никогда не стать на фабрике уважаемым человеком.