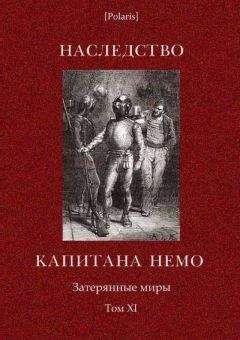Его изменившийся внешний вид и ремесло, то, что он работал, не прерываясь и не поднимая ни на кого глаз, вызвало среди обитателей двора тихую панику. Не столько для того, чтобы наточить ножи и ножницы, сколько чтобы дать ему заработать и втянуть его в разговор, хозяйки стали выходить из своих дверей с длинными широкими ножами для хлеба, треугольными секачами, с ножницами и ножничками. Женщины стояли вокруг него с этими стальными инструментами в руках, ждали своей очереди и пытались завязать с солдатом разговор.
— Вы ведь каждый год приходите посреди лета, в девять дней перед Девятым Ава. Что же случилось, Герц Городец, что на этот раз вы выбрались к нам перед Песахом?
— Ничего не случилось. — Он на минуту замедлил бег точильного камня. — Крестьяне, и белорусы, и поляки не хотят больше в свои деревнях еврейских бродячих торговцев, еврейских портных и еврейских парикмахеров. Даже еврейских музыкантов они больше не хотят. А одного такого еврейчика со скрипочкой[124] нашли убитым. Я решил вернуться прежде, чем меня тоже нашли бы мертвым.
Привыкнув за последнее время к дурным вестям о погромах, обитательницы двора тем не менее в первую минуту остолбенели, а потом принялись причитать, заламывая руки: снова напрасная жертва! Только они чуть-чуть успокоились, как одна из них удивленно сказала: разве это новость, что бьют евреев? Другая спросила даже со смехом: поэтому ему пришлось состричь свои красивые усы? А третья спросила вполне серьезно, почему он поменял деревянную ногу на костыль.
— Тяжело было носить, — ответил Герц Городец, и было непонятно, что именно он имеет в виду. Что ему было тяжело носить, красивые, закрученные усы или деревянную ногу?
Гомон женщин понемногу стих. Каждая протянула ему для заточки свой нож или ножницы, а он, возвращая их, сказал, сколько это стоит. За кухонный нож он брал двадцать пять грошей, а за большие ножницы — сорок грошей. Соседки остались стоять в глубоком молчании и после того, как они получили свою утварь назад. Они стояли с разнообразными наточенными кусками металла в руках и со странным оцепенением в испуганных взглядах, словно на старинной настенной росписи, изображающей вооруженных женщин, готовых к войне не на жизнь, а на смерть. В воцарившейся тишине слышался только визг стали на точильном камне. Иногда с точила срывались холодные голубые или красные искры.
Двор Песелеса, в котором кое-где еще лежали грязные сугробы, постепенно накрыли вечерние тени. Небо становилось все темнее. Соседки начали расходиться по квартирам, глядя с немым страхом на наточенные ножи и секачи в собственных руках. Инвалид все еще что-то точил, словно нажимание на педаль правой, обутой в сапог ногой заменяло ему прежние странствия по свету. Погруженный в работу, он не заметил, что от всего сборища женщин во дворе остался только один мужчина, который стоял там, опершись боком о стену, еще до их появления, и присматривался, прислушивался — столяр Эльокум Пап. Оставшись один на один с точильщиком, он приблизился и пробормотал:
— А я-то думал, что ты будешь шляться по деревням, пока не крестишься и не женишься на гойке. Кто он был, этот еврейчик со скрипочкой, которого убили крестьяне?
— Просто еврейчик со скрипочкой, — неохотно ответил Герц Городец и еще сильнее нажал на педаль точила, которое от этого стало вращаться еще быстрее. Эльокум Пап некоторое время молча смотрел, как он работает, а потом спросил:
— Для кого ты точишь этот нож? Что ты им собираешься делать?
— Продам какой-нибудь еврейке картошку чистить. — И точильщик посмотрел на столяра искоса, со злобной издевкой, блеснувшей в глазах. — Может, ты думаешь, что я пойду искать крестьян, убивших этого еврейчика со скрипочкой, и буду их резать? — Он остановил точило, завернул нож в кусок полотна и спрятал его в ящичек.
— Я слыхал, как люди говорили, что если находят убиенного, ему в могилу надо положить нож, чтобы он пришел и убил того, кто убил его, — пробормотал как бы по секрету Эльокум Пап и посмотрел на точильщика с недоверием, опасаясь, что тот смеется над ним.
— Этого еврейчика со скрипочкой похоронили в его одежде, потому что, говорят, таков закон, что убиенного хоронят в той одежде, в которой его нашли, а не в саване. Но ножа ему с собой в могилу не дали, потому что мертвый с ножом ничего не может сделать, — ответил Герц Городец с жестким спокойствием человека, не позволяющего утешать себя бабушкиными сказками. Сунув костыль под левую руку, он медленно поднял деревянную раму с точильным камнем на плечо и с минуту смотрел на освещенные окна Немого миньяна. Потом он повернулся к выходу со двора.
— Ты не остановишься на это раз на женских хорах молельни в Немом миньяне? — воскликнул Эльокум Пап, словно его обманули.
— Я останавливался на женских хорах в Немом миньяне, потому что я любил маршировать там на деревянной ноге: раз-два! раз-два! Но с костылем не маршируют. И главное, я не хочу больше скитаться по местечкам. Я пока ночую в заезжем доме на улице Стефана Великого, я там сплю в сенях. Местечковые извозчики, которые останавливаются там, знают меня и попросили за меня хозяина. Потом, если я останусь в Вильне, я буду искать квартиру, — Герц Городец говорил монотонно, голосом измученного человека, как никогда прежде не говорил.
— Пойдем ко мне. Поужинаешь у меня, и я постелю тебе, как графу, во второй половине моего подвала, в столярной мастерской. У меня ты будешь желанным гостем, никому не придется за тебя просить, чтобы тебе сделали одолжение. Завтра, если захочешь, наточишь для меня пару инструментов: долото, рубанок, топор. Давай сюда свою машину, мне легче ее нести, чем тебе, — с этими словами Эльокум Пап снял с плеча инвалида деревянную раму с точильным камнем и педалью.
По прежним временам Матля знала, что ее муж считает солдата с деревянной ногой гультаем. Что это вдруг между ними появилась такая дружба? Но привыкнув слушаться всего, что изрекал ее Эльокум, Матля приняла гостя с дружелюбной улыбкой и поспешно принялась готовить ужин. Следя за плитой и присматривая при этом за тремя дочерьми, она тем не менее прислушивалась одним ухом к разговору мужчин за столом и понемногу начала понимать, почему Эльокум Пап относится теперь к этому калеке иначе.
— У меня не выходит из головы эта история про еврейчика со скрипочкой, которого убили деревенские мужики. Он играл один, или в ансамбле, вместе с другими музыкантами? Где это произошло?
Инвалид, всегда охотно рассказывавший на крылечках во дворе Песелеса о своих приключениях в деревнях, сейчас явно не хотел говорить о ране, которая еще кровоточила. Но ему было неудобно отказывать столяру, пригласившему его к себе на ужин и на ночлег. Он вынул табак, соорудил из бумаги самокрутку и закурил, чтобы захотелось разговаривать.
— Слыхал про Лингмян[125]? Знаешь ведь про это местечко, где евреи устраивают веселье на кладбище. Там, в одном из близлежащих сел это и случилось.
— Местечко, где евреи устраивают веселье на своем кладбище? Как это может быть? — спросил с сомнением столяр, опасаясь, не пробудился ли в Герце Городеце прежний насмешник и не принялся ли опять за старое.
От заправленной нефтью настольной лампы на тонущие во мраке стены кое-где ложился слабый красноватый свет, походивший на пламя далекого лесного пожара, от которого больше дыма, чем света — лампа и впрямь дымила. Дым шел и от самокрутки инвалида, который рассказывал о местечке, где евреи устраивают веселье на кладбище.
Лингмян лежит неподалеку от Колтиняна[126] и Игналины[127], по дороге на Дугелишок[128], Дукшт[129] и Гайдуцишок[130]. Самый большой город в этих местах — Новый Свенцян[131]. Так кто будет смотреть в зеленый христианский праздник Троицы на Лингмян, где даже электричества еще нет, нет железнодорожной станции, а ярмарка бывает раз в год. Сами лингмянцы-то на себя не смотрят, особенно с тех пор, как местечко разделили надвое. Большую часть забрали литовцы, а меньшая часть осталась у поляков. Семьи оказались разделенными. Родители живут в домишке на польской стороне, а дети с внуками — на литовской. Поскольку граница легла точно посередине кладбища, лингмянцы понемногу дошли до мысли, что там можно встречаться раз в год, когда евреи посещают Девятого Ава родные могилы[132]. Виленский казенный раввин, сенатор Рубинштейн вел переговоры с польским начальством в Варшаве, а ковенские общинные деятели работали со своим литовским начальством, пока на весь день Девятого ава не стали снимать с лингмянского кладбища польских пограничников в зеленых шапочках и литовских пограничников в желтых шапочках. Увидав, что удалось избавиться на один день от охранников и пугал, из обеих частей местечка на кладбище устремились члены разделенных годами семей. В поле среди могил сначала был плач. А потом — радость и веселье.