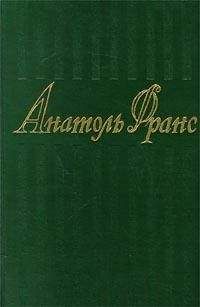Никий. Мы знаем, Марк, что твой бог создал вселенную. Это был, конечно, великий перелом в его существовании. Он существовал уже вечность, прежде чем решился на это. Но справедливости ради я признаю, что положение его было до крайности затруднительным. Чтобы оставаться совершенным, ему надо было пребывать в бездействии, а чтобы доказать себе свое собственное существование, приходилось действовать. Ты уверяешь, что он решил действовать. Я готов тебе поверить, хотя со стороны совершенного бога это было непростительной неосторожностью. Однако скажи нам, Марк, как же он взялся за дело?
Марк. Всякий — даже не христианин, — кто владеет, как Гермодор и Зенофемид, основами знания, понимает, что бог не создал мир самолично, без посредников. Он дал жизнь единственному своему сыну, которым все и было сотворено.
Гермодор. Ты сказал истину, Марк; и этого сына боготворят под именами Гермеса, Митры, Адониса, Аполлона и Христа[77].
Марк. Я не был бы христианином, если бы называл его другими именами, кроме имени Иисуса, Христа и Спасителя. Он истинный сын божий. Но он не вечен, раз он имел начало[78]; думать же, что он существовал еще до того, как был рожден, — значит допустить нелепость, которую следует оставить мулам никейского собора да упрямому ослу, который непозволительно долго правил александрийской церковью под именем Афанасия[79], — будь он проклят!
При этих словах Пафнутий, бледный, с челом влажным от предсмертного пота, осенил себя крестным знамением, но все же не нарушил своего величественного молчания.
Марк продолжал:
— Ясно, что нелепый никейский символ веры является посягательством на величие бога единого, ибо он предполагает раздел неделимых атрибутов бога между богом и его порождением, между богом и посредником, которым все было сотворено. Перестань насмешничать над истинным богом христиан, Никий. Знай, что, как лилии полевые, он не работает, не прядет. Работник не он, а сын его единственный, Христос, который создал мир, а потом пришел, чтобы исправить свое творение. Ибо творение не могло быть совершенным И зло неизбежно примешалось к добру.
Никий. Что такое добро и что такое зло?
Наступило краткое молчание. Гермодор, воспользовавшись им, протянул над скатертью руку и указал на ослика из коринфского металла с навьюченными на него корзинками — одной с белыми, другой с черными оливками.
— Взгляните на эти оливки, — сказал он. — Наш взор тешится контрастом их цветов, и мы радуемся тому, что эти — светлые, а те — темные. Но, если бы они наделены были мыслями и разумением, белые сказали бы: хорошо, когда оливка белая, и плохо, когда она черная; черные же оливки возненавидели бы белых. Мы судим о них правильнее, ибо мы настолько же выше их, насколько боги выше нас. Для человека, видящего лишь одну сторону сущего, зло есть зло; для бога, понимающего все, зло есть добро. Конечно, уродство уродливо, а не прекрасно, но если бы все в мире было прекрасно, то мир в целом не был бы прекрасен. Следовательно, хорошо, что есть зло, — как это доказал второй Платон[80], превзошедший мудростью первого.
Евкрит. Станем на более нравственную точку зрения. Зло есть зло не для мира, изначальной гармонии которого ему не разрушить, а для дурного человека, который совершает зло, а мог бы его и не совершать.
Котта. Клянусь Юпитером! Вот здравое рассуждение.
Евкрит. Мир — трагедия, сочиненная превосходным поэтом. Бог, создавший эту трагедию, предназначил каждого из нас сыграть в ней определенную роль. Если ему угодно, чтобы ты был нищим, монархом или хромым, старайся как можно лучше исполнить порученную тебе роль.
Никий. Конечно, хорошо, если хромой из этой трагедии хромает, как Гефест; хорошо, если безумец предается неистовству, как Аякс, если кровосмесительница повторяет преступления Федры[81], если предатель предает, обманщик лжет, убийца убивает. Когда же представление окончится, сочинитель похвалит в равной мере всех лицедеев — царей-праведников, кровавых тиранов, богобоязненных дев, бесстыжих жен, самоотверженных граждан и подлых душегубцев.
Евкрит. Ты извращаешь мою мысль, Никий, и делаешь из прекрасной девушки отвратительную Медузу[82]. Мне тебя жаль, — тебе неведомы природа богов, справедливость и вечные законы.
Зенофемид. Что касается меня, друзья мои, я верую в существование добра и зла. Но я убежден, что нет такого человеческого поступка — будь это даже поцелуй Иуды, — который не заключал бы в себе зачатка искупления. Зло содействует конечному спасению человечества, и тем самым оно связано с добром и несет в себе то положительное, что свойственно добру. Христиане превосходно выразили это в сказании о рыжем человеке, который, предавая своего учителя, подошел к нему с поцелуем мира и этим поступком утвердил спасение человечества. Поэтому, на мой взгляд, трудно представить себе что-либо более несправедливое и более необоснованное, чем та ненависть, какую иные из учеников Павла-ткача[83] питают к несчастнейшему из апостолов Христа; они забывают, что поцелуй Искариота, предсказанный самим Христом, был, по их же собственному учению, необходим для искупления и что, если бы Иуда не получил мошны с тридцатью сребрениками, божественная премудрость не оправдалась бы, провидение было бы опровергнуто, предначертания его опорочены, а мир вновь отдан во власть зла, невежества и смерти.
Марк. Божественная премудрость предвидела, что Иуда, вольный не давать предательского поцелуя, все же даст его. Следовательно, она воспользовалась злодеянием Искариота как камнем, на котором воздвигнут чудесный замысел искупления.
Зенофемид. Я говорил сейчас с тобою, Марк, так, словно я верю, будто искупление человечества осуществлено распятым Христом; мне известно, что таково верование христиан, и я стал на их точку зрения для того, чтобы лучше уяснить ошибку тех, кто верит, будто Иуда проклят навеки. На самом же деле я полагаю, что Христос всего-навсего предтеча Василида и Валентина. Что же до тайны искупления, я расскажу вам, друзья, если хотите, как оно совершилось на земле в действительности.
Гости знаком просили его продолжать. Двенадцать девушек, словно юные афинянки со священными кошницами Цереры[84], легкой поступью вошли в зал; они несли на головах корзины с гранатами и яблоками, и мерному шагу их сопутствовали звуки невидимой флейты. Они поставили корзины на стол, флейта умолкла, и Зенофемид продолжал так:
— Когда Евноя, мысль бога, сотворила вселенную[85], править землей она поручила ангелам. Но ангелы не устояли против соблазнов, как то подобало бы властителям. Они увидели, что дочери человеческие красивы, и однажды вечером застигли их у водоемов и сочетались с ними. От этих союзов произошел буйный род, распространивший по земле несправедливость и жестокость, и пыль на дорогах оросилась кровью невинных. Видя все это, Евноя впала в безысходную печаль.
— Вот что я наделала! — стонала она, склонившись над миром. — По моей вине жизнь детей моих полна горечи. Их страдания — плоды моего преступления, и я хочу искупить его. Сам бог, за которого я мыслю, бессилен вернуть им первоначальную их непорочность. Что сделано — сделано, и творение останется несовершенным навеки. Но я не покину свои создания! Я не могу сделать их счастливыми, как я сама, зато могу стать несчастной, как они. Раз я совершила ошибку, наделив их телами, которые унижают их, я сама воплощусь в тело, подобное их телам, и стану жить среди них.
С этими словами Евноя спустилась на землю и воплотилась во чреве одной из дочерей Тиндарея. Она родилась маленькой и слабой, и ей дано было имя — Елена. Покорная всем тяготам жизни, она вскоре выросла, развилась и похорошела и стала желаннейшей из женщин, — как она заранее и решила, дабы на своем смертном теле испытать самый страшный позор. Пав жертвой грубых и похотливых мужчин, она стала соблазнять их, и предалась блуду во искупление всего блуда, всех злодеяний, всей неправды, и своей красотой принесла гибель народам, чтобы бог мог простить грехи мира. И никогда Евноя, небесная мысль, не была столь пленительной, как в те дни, когда она, женщиной, отдавалась всем без разбору — и героям и пастухам. Поэты угадывали ее божественное происхождение, когда рисовали ее такой невозмутимой, гордой и гибельной и когда взывали к ней: «Душа ясная, как морская гладь!»
Так жалость приобщила Евною к страданиям и злу. Она умерла, и лакедемоняне поныне показывают ее могилу; ей суждено было вкусить от всех горьчайших плодов, которые она посеяла, и вслед за сладострастием познать смерть. Однако, покинув разлагающееся тело Елены, Евноя воплотилась в другую женскую плоть и вновь обрекла себя на всяческое поругание. Так, переходя из тела в тело и разделяя с нами бремя тяжких годин, она принимает на себя грехи мира. Ее жертва не будет напрасной. Связанная с нами узами плоти, любя и сокрушаясь вместе с людьми, она осуществит и свое и наше искупление и вознесет нас, приникших к ее белой груди, в мирные селения вновь обретенных небес.