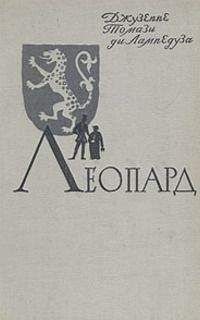Князь принялся разглядывать висевшую перед ним картину, отличную копию «Смерти праведника» Греуза; старец умирал у себя в постели, среди пустых пышных складок белоснежного белья, окруженный убитыми горем внуками и внучками, поднимавшими руки к потолку. Девушки были изящны и бесстыдны, беспорядок их одежд свидетельствовал скорее о легкомысленности поведения, чем о горе; было ясно, что именно они являли собой подлинный сюжет картины. И все же дон Фабрицио с минуту удивлялся тому, что Дьего соглашался постоянно иметь перед глазами это печальное зрелище. Затем он успокоился, подумав, что тот в лучшем случае бывает здесь не чаще одного раза в год.
Тотчас же вслед за этим он спросил себя, будет ли его собственная смерть походить на эту. Наверняка будет; разве что белье окажется менее безупречным, он-то знал, простыни умирающих всегда грязны — запачканы слюной, испражнениями, пятнами от лекарств; да еще, надо надеяться, Кончетта, Катерина и другие оденутся приличней. Но в остальном все будет как здесь.
Как всегда, мысль о собственной смерти успокоила его, меж тем как мысль о смерти других его всегда волновала — может, оттого, что, как там ни верти, своя смерть означала конец всего на свете.
Теперь он подумал, что склеп в монастыре капуцинов, где похоронены родители, нуждается в ремонте. Жаль, что уже не разрешают подвешивать покойников за шею в склепе, чтобы затем наблюдать, как они медленно превращаются в мумии. Он, пожалуй, неплохо выглядел бы на этой стене; такой большой и длинный, он пугал бы девушек своей застывшей улыбкой на лице пергаментного цвета, своими длиннющими брюками из белого пике. Ну нет, его обрядят в парадный костюм, быть может, в этот же фрак, что на нем сейчас…
Дверь открылась.
— Дядюшка, до чего ты сегодня красив! Черный костюм так тебе к лицу. Но что ты здесь разглядываешь? Решил поухаживать за смертью?
Танкреди держал Анджелику под руку: оба еще не освободились от чувственного увлечения танцем и казались усталыми. Анджелика села, попросила у Танкреди платок, чтоб обтереть виски; дон Фабрицио протянул ей свой. Молодые люди поглядели на картину с полнейшей беспечностью. Для обоих знакомство со смертью было чисто умозрительным, оно, так сказать, входило в круг их понятий, и только; оно не было опытом, проникшим до мозга костей. Да, смерть, она существовала бесспорно, но для других. Дон Фабрицио подумал, что полное неведение этого высшего утешения заставляет молодежь острей стариков переживать горе: старикам ближе к запасному выходу.
— Князь, — сказала Анджелика, — мы узнали, что вы здесь, и пришли сюда не только отдохнуть, но и попросить вас кое о чем; надеюсь, вы мне не откажете.
Её глаза так и искрились лукавством, рука легла на манжет князя.
— Я хотела просить вас танцевать со мной следующую мазурку. Скажите «да», не будьте букой. Все знают, что вы были чудесным танцором. Князь пришел в полнейший восторг, он даже возгордился. Какой там еще склеп у капуцинов! Его щеки вздрагивали от радостного чувства. Однако мысль о мазурке немного пугала; этот танец военных, весь из притоптываний в круженья, ему не под силу. Разве не удовольствие стать на колени перед Анджеликой, но что, если ему потом трудно будет подняться?
— Спасибо, дочь моя, ты меня молодишь. Счастлив повиноваться; танцую, но только не мазурку, нет, предоставь мне первый вальс.
— Видишь, Танкреди, какой дядя добрый? Не капризничает, как ты. Знаете, князь, он не хотел, чтоб я вас об этом просила, — ревнует.
Танкреди засмеялся.
— Когда у тебя такой изящный и красивый дядя, можно быть ревнивцем. Впрочем, на этот раз я не буду противиться.
Теперь смеялись все трое, и дон Фабрицио не понимал: что это, заговор, чтобы доставить ему удовольствие, или просто попытка над ним подшутить? Впрочем, неважно, все равно они — милы.
Выходя из комнаты, Анджелика пальцем коснулась штофа на кресле.
— Хорош, красивый цвет; но в вашем доме, князь…
Корабль продолжал двигаться по инерции. Танкреди вмешался.
— Хватит, Анджелика. Мы оба тебя любим независимо от твоих познаний в мебели. Оставь кресла в покое и пошли танцевать.
Направляясь в зал для танцев, дон Фабрицио заметил, что Седара еще беседовал с Джованни Финале. «Русселла», «приминтио», «марцолино» — доносились до него наименования сортов посевного зерна, достоинства которых сопоставлялись. Князь предвкушал неизбежность приглашения в Маргероссу — поместье, из-за которого Финале разорялся, стремясь завести в нем агрономические новшества.
Анджелика с доном Фабрицио были великолепной парой. Огромные ноги князя передвигались с потрясающей осторожностью, ни разу опасность не угрожала атласным туфелькам его дамы. Его лапища с мужественной твердостью лежала на ее талии, подбородок касался волны ее волос. От шеи Анджелики шел аромат духов «буке а ля марешаль», но еще сильнее было благоухание ее гладкой молодой кожи. В памяти князя всплыла фраза Тумео: «Райским должен быть запах ее простынь». Фраза непристойная, грубая фраза, но сказано точно. Этот Танкреди…
Анджелика без умолку говорила. Ее прирожденное тщеславие, ее упорное честолюбие получили удовлетворение.
— Я так счастлива, дядюшка. Все были так милы, так добры. Танкреди — просто прелесть, и вы тоже прелесть. Всем этим я и Танкреди обязаны вам. Уж я-то знаю, чем бы все кончилось, если бы вы не захотели.
— Я здесь ни при чем, дочь моя, ты всем обязана одной себе.
Это правда, никакой Танкреди не устоял бы перед ее красотой в соединении с богатством. Он женился бы на ней, сломив все преграды. Внезапно больно кольнуло в сердце: князь подумал о печальных гордых глазах Кончетты. Но боль продолжалась недолго, с каждым кругом вальса с плеч его спадал год; вскоре он вновь почувствовал себя, как в двадцать лет, когда в этом же зале танцевал со Стеллой, когда еще не знал, что такое разочарование, скука, усталость. В ту ночь смерть на одно мгновение снова стала в его глазах чем-то имеющим отношение только «к другим».
Поглощенный своими воспоминаниями, так хорошо сочетавшимися с тем, что он теперь ощущал, князь не заметил, что сейчас танцевал с Анджеликой один. Другие пары, быть может, подстрекаемые Танкреди, остановились и глядели на них; тут же были и супруги Понтелеоне; они казались растроганными — пожилые люди, может быть, им все понятно, но Стелла ведь тоже не молода, она стоит у двери, взгляд ее все мрачнеет. Когда умолк оркестр, аплодисменты не прозвучали лишь оттого, что слишком уж гордый был у дона Фабрицио вид, чтобы кто-нибудь мог отважиться на подобную непристойность.
Когда кончился вальс, Анджелика предложила дону Фабрицио отужинать вместе с ней и Танкреди за одним столиком. Он был бы рад этому, но как раз в ту минуту на него нахлынули воспоминания молодости, и он представил себе, насколько скучен будет ужин со старым дядей, да еще когда Стелла находится здесь же, в двух шагах. Влюбленные хотят быть наедине друг с другом или, на худой конец, в обществе посторонних, но с людьми пожилыми и, что всего тягостнее, с родственниками им и вовсе не интересно.
— Спасибо, Анджелика, у меня нет аппетита. Съем что-нибудь стоя. Иди с Танкреди, не думайте обо мне.
Он переждал с минуту, пока молодые люди не удалились, а затем и сам прошел в зал, где был буфет. В глубине стоял длинный узкий стол, освещенный знаменитыми двенадцатью канделябрами из позолоченного серебра, которые были подарены деду Дьего испанским двором по окончании его посольства в Мадриде; на высоких пьедесталах из сверкающего металла возвышались, чередуясь, шесть фигур атлетов и шесть женских фигур, которые держали над головами ствол из позолоченного серебра, вершину которого украшали языки двенадцати зажженных свечей. Искусный ювелир сумел тонко сочетать спокойную легкость юношей с изящной напряженностью девушек, удерживавших непомерную для них тяжесть двенадцати превосходных массивнейших канделябров.
«Кто знает, сколько сальмов земли можно было бы, за них приобрести», — сказал бы несчастный Седара.
Дон Фабрицио вспомнил, как однажды Дьего показал ему футляры для каждого из канделябров — покрышки из зеленого сафьяна, по краям которых красовались тисненные золотом тройной щит Понтелеоне и витые инициалы дарителей.
Под канделябрами, под горкой с пятью уступами, откуда к потолку вздымались пирамиды сластей, до которых никогда не доходил черед, простиралось монотонное изобилие «чайных столиков» большого бала — виднелись кораллового цвета омары, сваренные живьем; мягкое и вязкое «шофруа» из телятины; огромные стального цвета рыбины под легкими соусами; индейки, которых позолотил огонь; розовые жирные паштеты из печенки под желатиновой броней; очищенные от костей бекасы над холмами ароматных гренок, декорированных перемолотыми потрохами; золотистые желе и с десяток других столь же манящих и разукрашенных деликатесов. По краям стола возвышались две монументальные суповые миски из серебра с прозрачным бульоном цвета жженой смолы. Повара больших кухонь замка, должно быть, в поте лица трудились с прошлой ночи.