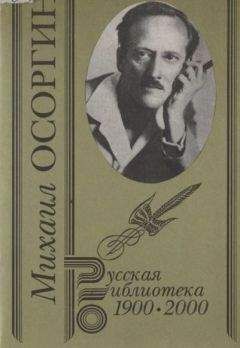И могло статься, что так бы и доехали от Устюжны до самого Оренбурга, если бы путь их не скрестился случайно с объездом дотошного заседателя весьегонского нижнего суда Маслова. Этому Маслову рассказали в селе Макарове, что был здесь только что офицер, расспрашивал крестьян и уехал в деревню Перемут и что теперь, возможное дело, всех помещичьих крестьян перепишут в государевы. Маслов нагнал Федосеева в ближнем селе, застал его в беседе с крестьянами, а у ворот готовую подводу, спросил бумаги, велел обыскать, нашел записи душ и оброка — и привез к себе в нижний суд двух арестантов.
Сидя в весьегонском остроге вместе с сержантом Степановым, подпоручик Федосеев говорил ему смущенно и безрадостно:
— Плохо, братец, повернулось дело! А как хорошо ехали!
— Ничего, ваше благородие! Сколько надо посидим, да и опять поедем.
— Нет, уж теперь пойдем пехтурой; вот только сапоги у меня разлезлись, а в лаптях офицеру, сам понимаешь, неудобно.
* * *
Жалованная благородному российскому дворянству грамота 1785 года апреля 21 дня:
«Статья 5. — Да не лишится дворянин или дворянка дворянского достоинства, буде сами себя не лишили оного преступлением, основаниям дворянскому достоинству противным.
Статья 15. — Телесное наказание да не коснется благородного».
Воинского устава 17 главы артикулы:
«135. — Никто б, ниже словом, или делом, или письмами, сам собою, или чрез других, к бунту и возмущению или иное что учинить причины не дал, из чего б мог бунт произойти. Ежели кто против сего поступит, оный по розыску дела живота лишится или на теле наказан будет.
137. — Всякий бунт, возмущение или упрямство без всякой милости имеет быть виселицею наказано».
А на оный артикул толкование:
«В возмущении надлежит виновных в деле самом наказать и умертвить, особливо ежели опасность в медлении есть, дабы чрез то другим подать и оных от таких непристойностей удержать, пока не расширится, и более б не умножилось».
Весьегонский нижний суд не поскупился на вызов свидетелей; дали показания старосты, десятские, простые крестьяне, помещики, помещицы и дворовые люди. Все показания были одинаковы и согласны. Проехал через села и поместья офицер с солдатом, спрашивал, сколько душ да какой платится оброк, требовал лошадей дальше — и уезжал. У помещиков обедывал, у коллежского асессора Бориса Новицкого провел денек и рассказывал, что едет в Оренбург обучать солдат новой военной экзерциции, барыня Марья Саванчеева действительно сама пригласила подпоручика с сержантом заехать к ней выпить пива домашнего приготовления, и в беседы со всеми вступал охотно. Но про то, будто с нового года будут все крестьяне платить один оброк, на манер казенных, — про то офицер не говорил и никто от него не слыхивал.
Исписавши ворох бумаги, весьегонский нижний суд направил свою ревизию в петербургскую уголовную палату. К груде бумаг приложили злосчастных подпоручика с сержантом. Уж так случилось, что на путь в Оренбург не нашлось денег на прогоны, а тут, путем обратным, везли бесплатно и даже, хоть и худо, кормили незадачливых арестантов.
В петербургской палате дело слушали и смотрели великие судьи и законоведы. Особый страх внушала им отобранная у преступника бумажка с записями: «Устюжского уезда у помещика Батюшкова — 1000 душ, оброку с души по 12 рублев. Помещика Досадина — 300 душ, оброку по 25. Помещицы Нелидовой — 1000 душ, с каждой души оброку 37 рублев. Помещика Куликова — у оного крестьяне в побеге, разогнаны им самим. Помещика Кропотова — оброку по 5».
Если спрашивал об этом крестьян — могло среди оных родиться сомнение. От сомнения же бывает возмущение. От возмущения — бунт.
Указ 1767 года августа 22 дня: «Кто отважится возмущать людей и крестьян к неповиновению их помещикам, тотчас брать под караул и поступать с ними, как с нарушителями общего покоя, без всякого послабления». А по силе военных артикулов наказание таковому разгласителю вольности — смертная казнь.
Важно было — найти подходящую статью. Когда же статья была найдена, вопрос пошел только о том, применить ли к злодеям смертную казнь или отнестись к ним милостиво и, вырвав ноздри и учинив жестокое наказание кнутом, поставить им калеными стемпелями на лбу букву «В», на одной щеке «О», на другой щеке «Р», а затем в кандалах отправить их в тяжкую работу в Рогервик и прочие места.
Порешили милостиво, но не обоим одинаково. Сержанта Степанова наказать кнутом и заклеймить литерами было просто; но «дело благородного, по законам достойного лишения дворянского достоинства или чести или жизни да не вершится без внесения в Сенат и конфирмации Императорского Величества».
В петербургской тюрьме поручик говорил сержанту:
— Погубил я тебя, Степанов, прости Бога для!
— Бог простит, ваше благородие!
А понеже указом 3 января 1797 года предписано: «Как скоро снято дворянство, то уже и привилегия до него не касается, по чему и впредь поступать», то Сенат наконец уравнял великих преступников.
31 января в Рождественской части на Александровской площади чрез заплечных мастеров учинено полностью наказание кнутом и клеймением двум пешеходам, придумавшим способ прокатиться на казенных лошадках.
А затем сослали Федосеева в Нерчинскую каторгу, Степанова — в Ригу.
Ночью в душной спальне слышны два дыхания, одно подавленное, придушенное, другое с присвистом, но тоже неровное и тяжелое. Воздух в комнате сперт и многоароматен: пахнет и лоделаваном, и мятной настойкой, и нечистым человеком. На дворе весна, а окна заперты и даже фортки на крючках.
Бывает, что свистящее дыхание прерывается, словно приключилась закупорка; потом пробка выскакивает, и слышится шлепанье губ и бормотанье. И сейчас же в сторонке раздается робкий стук, сопровожденный вздохом; похоже, что собака под стулом привстала, покружилась, задела хвостом задеревянное, вздохнула и улеглась поудобнее, стукнув костями.
С первым утренним светом белеет пятно постельного изголовья: подушки, кружевной чепчик на огромном черном лице. Потом ясно, что это не лицо, а как бы тыква с пробоиной. Однако под стеганым одеялом, сшитым из многоцветных треугольников, шелковых, атласных, бархатных и парчовых, видно очертание тела, копной лежащего на постеле, обширнейшей, как площадь. Над постелею подобранный кружевной навес с золотыми лентами и золотым же гербом. К ногам постели приставлен темного дерева шкап неизвестного назначения вроде большой будки, но глухой, на наружном засове, по бокам со скобами на манер ручек. Если там собака, то помещение достаточно и для крупной породы — скажем, для сеттера с добрыми глазами.
Поздним утром в доме шорохи, в будке все чаще постукивает, а то и покашливает, а тыква все лежит неподвижно, и из отверстия слышен свист. И не раньше, как в десятом часу, из-под стеганого одеяла высовывается рука, поддевает и снимает тыкву и открывает потное бабье лицо с приставшими серыми мокрыми плюшками. Рыхлое тело садится в постеле, а рука тянется к полотенцу, приготовленному на столике рядом.
Человек, хоть сколько-нибудь искушенный в косметике, поймет, что тяжкая маска набита пареной телятиной. А когда приставшие кусочки осторожно сняты полотенцем, лицо вытирается особым замшевым утиральником Венеры, промятым спермацетной мазью с белилами. Умываться не полагается: кожа портится от воды и казанского мыла.
И только все это выполнив собственноручно, кричит графиня Наталья Владимировна голосом визгливо-хриплым, но барственным:
— Девки!
Темная будка вздрагивает и снова затихает. Две девушки, одна простоволосая, другая во французском чепчике, но обе босые, с робкой спешкой протискиваются в спальню. Обе ждали у двери подоле часу, а впрочем, и ночь спали тут же за дверьми на полу, на холодной подстилке.
* * *
По утрам графиня не одевалась и не прихорашивалась, а слонялась по дому в грязном ватном халате и глухом чепце, покрикивая на челядь, на девок, на поваров, щедро раздавая пощечины, девушкам выкручивая кожу щипком, нехорошо ругаясь. Никого не принимала, да никто в эти часы и не приезжал. Граф Николай Иванович[144] — тот, наоборот, из дому уходил рано, поутру, а случалось, и ночевал во дворце, где был как бы дядькой при великом князе Александре Павловиче, еще не вошедшем в возраст. И весь остальной день был занят у графа Салтыкова, будущего фельдмаршала и князя, — расписан по часам. Оттого и спальни у графа и графини были особые у каждого, что и по возрасту их было понятно: Наталья Владимировна кончала свой шестой десяток[145].
Для толстой и рыхлой женщины шестьдесят лет — цифирь почтенная! Тело обвисло до потери женского и вообще человеческого образа, лицо в складках, и, страшное дело, повылезли у графини последние седые власы, так что образовалась большая плешь. На ее счастье, в то время носили модные прически высоты неимоверной, да еще поверх прически налагали «бонне а цилиндр» — наколку на манер цилиндра ростом в добрую сахарную голову, так что в хороших домах, где собирались модницы, подвешивали ближе к потолку люстры и жирандоли, чтобы — сохрани Боже — не вспыхнули огнем столичные красавицы.