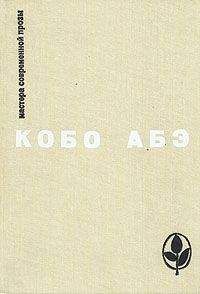И все же мне бы не хотелось превращаться в обыкновенного палача. Из меня были выжаты все соки, я ссыхался и в то же время должен был терпеть эту безнравственность, терпеть эту борьбу. В такой агонии и смерть теряла предполагавшуюся в ней остроту, и убийство выглядело всего лишь небольшим варварством… Что же, по-твоему, заставило меня стерпеть все это? Возможно, это покажется тебе странным — достоинство, которое ты продолжала сохранять, хотя над тобой надругались. Пожалуй, «достоинство» звучит несколько странно. Нет, это совсем не было насилием, не было и односторонним беззаконием маски — ты ни разу, ничем не показала, что отвергаешь ее, и значит, тебя нужно считать скорее соучастницей. А когда соучастник держится с достоинством со своим компаньоном, это выглядит смешно. Правильнее, видимо, сказать, что у тебя был вид уверенной в себе соучастницы. Поэтому, как бы отчаянно ни боролась маска, она не смогла превратиться в развратника, не говоря уж о насильнике. Ты оставалась буквально недоступной. Но факт остается фактом — ты безнравственна и неверна. И факт остается фактом — ревность бурлила во мне, как деготь в котле, как дым, вырывающийся из трубы после дождя, как горячий источник, кипящий вместе с грязью. Но случилось непредвиденное — встав в неприступную позу, ты в конце концов не подчинилась маске, и это поразило меня, потрясло.
Нельзя сказать, чтобы мне удалось полностью постичь, что заставило тебя без всяких колебаний пойти на прелюбодеяние. Наверно, все же не чувственность. Если бы чувственность, ты должна была бы тогда более откровенно кокетничать. Но ты, точно совершая обряд, с начала и до конца усердно сохраняла невозмутимость. Я действительно не понимаю. Что происходило в тебе? Я не мог уловить и намека. Плохо еще и то, что выросшее, укоренившееся чувство поражения до самого конца — во всяком случае, до того времени, когда пишутся эти записки, — так и осталось, как несмываемое пятно. Это пожирающее внутренности самоистязание пострашнее припадков ревности. Хотя я надел маску специально, чтобы восстановить тропинку и завлечь тебя на нее, ты прошла мимо меня и скрылась вдалеке. И так же, как прежде, когда у меня еще не было маски, я остался один.
Не понимаю я тебя. Едва ли ты согласилась на приглашение только потому, что оно последовало и тебе было безразлично, кто приглашает, едва ли ты играла уличную женщину, но… но нет и доказательств, что это не так. Или, может быть, ты была прирожденной проституткой, а я просто этого не подозревал? Нет, проститутка не может так величественно сыграть порядочную женщину. Если бы ты была проституткой, то, удовлетворяя чужую похоть, не обливала бы человека презрением, не вынуждала к самоистязанию. Кем же ты была? Хотя маска изо всех сил старалась разрушить преграду, ты, не коснувшись, проскользнула сквозь нее. Как ветер или как дух…
Я не понимаю тебя. Дальнейшие эксперименты над тобой приведут лишь к одному — к моей собственной гибели.
* * *
Наутро… хотя какое утро, было уже около полудня… мы до самого выхода из гостиницы почти не разговаривали. Из-за того, что я все время просыпался в страхе, что во сне у меня сползет маска, из-за снов, будто я куда-то должен ехать, будто по дороге потерял билет, усталость сковала переносицу, точно туда всадили кол. Благодаря маске я смог, как и ты, не допустить на лицо усталость и стыд. Но по вине той же маски я не мог ни умыться, ни побриться. Маска, оставшаяся неизменной, туго стянула отекшее за ночь лицо, выросшая щетина, наткнувшись на препятствие — маску, загнулась и начала врастать в кожу — состояние ужасное. В общем, маска тоже жалкая штука. Хотелось побыстрее расстаться с тобой и вернуться в убежище.
Когда, закурив последнюю сигарету, мое настоящее лицо, вынужденное все это время играть невыгодную роль, заговорило о том, что могло вызвать у тебя муки совести, ты вдруг нерешительно протянула мне синевато-зеленую пуговицу, и я невольно вздрогнул. Это была не поднятая мной пуговица, а другая, с которой ты возилась тогда, еще полмесяца назад. В то время меня раздражало твое увлечение, но, увидев эту пуговицу снова, я, кажется, понял тебя. Тонкие серебряные нити, точно вдавленные иглой, переплетались в волшебном беспорядке, прочерчивали толстую основу из лака. Казалось, в ней застыл твой безмолвный крик. Пуговица показалась мне приблудной кошкой, которую от всей души любит и лелеет старая одинокая женщина. Наивно? Может быть. Но стоило мне подумать, что это страстный протест против «него», ни разу даже не вспомнившего о твоих пуговицах, и поступок твой сразу же показался мне хорошо продуманным… Я собирался обвинять тебя, но вместо этого обвиненным оказался сам — в общем, я научился мастерски сносить поражение. Кто, интересно, сказал глупость, будто женщиной можно завладеть?..
Улица вся блестела на свету, точно хромированная. Реальным был только оставшийся в носу запах твоего пота. Наскоро приведя в порядок лицо, я свалился на кровать и проснулся только на рассвете. Оказалось, что я проспал почти семнадцать часов. Лицо горело, точно по нему прошлись рашпилем. Открыв окно и глядя на медленно светлеющее голубизной небо, я начал прикладывать к лицу влажное полотенце. Постепенно небо стало приобретать цвет пуговицы, которую ты мне дала, а потом цвет вспененного винтом моря, уходящего за кормой. Меня охватила тоска, до боли вцепившись руками в грудь, я невольно завыл… Что за бесплодная чистота! В этой синеве жизнь невозможна. Как хорошо бы задушить вчера и позавчера, чтобы они исчезли. Если проанализировать мой план только с точки зрения формы, то нельзя сказать, что он не принес никакого успеха, но кто собрал с него урожай и какой? Если и был человек, собравший урожай, то им оказалась ты одна, без стеснения сыгравшая роль уличной женщины и, как огромная осязаемая тень, пробравшаяся сквозь маску. Но сейчас здесь осталась лишь синева неба и боль лица… Маска, которая должна была стать победителем, выглядела на столе нелепо, как непристойная картинка, после того как желание удовлетворено. Может, использовать ее как мишень для упражнений в стрельбе из духового пистолета?.. а потом разорвать на мелкие клочки, будто ничего и не было?..
Но в это время синева побледнела, улица начала обретать свое дневное лицо, и тогда мое малодушное нытье отвалилось, как старая болячка, и я был снова безжалостно возвращен к неизбежной действительности — скопищу пиявок. Пусть маска больше не сможет дать мне сны, похожие на праздничный фейерверк, но еще хуже — отказаться от маски и заживо похоронить себя в каменном мешке без единого окна. После вчерашнего я еще колебался, но если бы мне удалось точно найти в нашем треугольнике центр тяжести, то, пожалуй, не было бы уж так невозможно, ловко удерживая равновесие, использовать маску. Какими бы бурными ни были мои временные эмоции, любой план требует некоторого срока для доработки — это несомненно.
Я быстро поел и раньше обычного выскочил из дому. Поскольку я должен был снова оказаться в роли «самого себя», возвратившегося из недельной командировки, сегодня после долгого перерыва лицо опять забинтовано. Выходя, я взглянул на свое лицо, отражавшееся в окне, и оторопел. Какой ужас! Я совсем по-новому осознал чувство освобождения, которое давала маска. А что, если прямо сейчас возвратиться домой?.. Такая мысль меня самого подстегнула… Это произведет на тебя впечатление — ощущения прошлой ночи, несомненно, живы еще в твоем теле. Стоит попробовать. Но смогу ли я вынести такое? — вот в чем вопрос. Уверенности, к сожалению, не было. Ощущения прошлой ночи остались и у меня. Я, наверно, терзаю тебя в припадке ярости оттого, что все обнаружилось. Но как я ни страдал, все равно хотелось на некоторое время сохранить треугольник. А нашу встречу, когда я буду «самим собой», давай отложим на то время, когда я встречусь с отрезвевшим внешним миром и успокоюсь.
Но действительно ли он отрезвел, этот внешний мир? Ворота института были еще закрыты. Когда я вошел в боковую дверь, сторож, с зубной щеткой во рту, державший в руках цветочный горшок, так испугался, что на мгновение лишился голоса. Он поспешно бросился к вестибюлю, но я остановил его и попросил дать ключ. Запах химикатов был для меня привычный, как разношенные ботинки. Безлюдное здание института напоминало обитель привидений, в которой жило лишь эхо — запахи, звуки шагов. Чтобы восстановить отношения с действительностью, я повесил на дверь табличку со своим именем и быстро переоделся в белый халат. На грифельной доске был записан ход эксперимента, про водившегося ассистентом группы С. Результаты отличные. Только это и пришло мне на ум, и больше к этой мысли я не возвращался. Находившийся в здании человек, который разжигал соперничество и ревность, был одержим жаждой славы, старался обскакать других, чтобы получить зарубежную литературу, ломал голову над проблемой кадров, закатывал истерики по поводу финансирования экспериментов и вместе с тем усердно работал, находя в этом смысл жизни, был не я, а кто-то другой, очень на меня похожий. Мне представилось, что тот человек, которым был я, то же самое, какими здесь были сейчас запахи, звуки шагов… Это меня смущало. Значит, исходить нужно совсем из другого. В технике существуют свои собственные законы техники, и, каким бы ни было лицо, на них это не окажет влияния. Можно ли, например, утверждать, что химия, физика лишаются смысла, поскольку человеческие отношения всех уровней отсутствуют у водяных блох, медуз, паразитов, свиней, шимпанзе, полевых мышей. Конечно же, нет! Человеческие отношения всего лишь придаток человеческого труда. Иначе не осталось бы ничего другого, как сразу отказаться от паллиативного маскарада и покончить с собой…