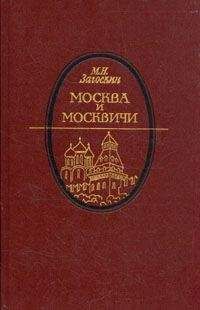Авдотья Ивановна. Да, они так же, как и другие, начали университетом.
Рыльский. И, вероятно, выпущены действительными студентами, кандидатами?…
Авдотья Ивановна. Ах, Артемий Захарьич, какой вы русский человек! Вы помешаны на чинах.
Рыльский. Да это не чины, а ученые степени.
Авдотья Ивановна. Ах, боже мой!.. Я уж вам сказала, что это недюжинные люди. На что им ваши ученые степени? Помилуйте, да разве Шекспир, Бирон, Виктор Гюго, Жорж Занд были когда-нибудь кандидатами?
(Входит Андрей Степанович Лычкин.)
Лычкин (кланяясь хозяйке). Madame!
Авдотья Ивановна (привставая). Здравствуйте, Андрей Степанович! Я ждала вас ранее.
Лычкин. Виноват, Авдотья Ивановна! Впрочем, я наказан за мою вину, и очень жестоко: я был в русском театре… Dieu, quelle misere!..
Авдотья Ивановна. Охота же вам ездить.
Лычкин. Меня затащили насильно.
Авдотья Ивановна. Хотите чаю?
Лычкин. Сделайте милость!
(Человек подходит с подносом. Лычкин берет чашку и садится.)
Букашкина (тихо Суховольской). Это один из московских львов.
Суховольская. В самом деле?… Какая у него странная бородка!
Букашкина. Здесь, ma chere, это редкость, но в Одессе все так ходят.
Авдотья Ивановна. Мосье Лычкин, не виделись ли вы с Неофитом Платоновичем Ералашным?
Лычкин. Я сейчас обогнал его. Он едет к вам вместе с Наяновым. Да вот они!
(Входят Ералашный и Наянов.)
Авдотья Ивановна (идя к ним навстречу). Неофит Платонович!.. Варсонофий Николаевич!.. Мы все ждали вас с таким нетерпением!.. Надеюсь, вы привезли с собою…
Наянов. Разумеется!
Авдотья Ивановна. А вы?
Ералашный. Вы знаете, Авдотья Ивановна, я не очень охотно читаю, а особливо в большом обществе. Но я не смел вам отказать… (Окидывает беглым взглядом всю комнату. Бледное и длинное лицо его становится еще длиннее, и вежливая улыбка превращается в какую-то весьма неприятную гримасу.) И у вас больше никого не будет?
Авдотья Ивановна. Никого! Как видите, человек пятнадцать, не больше.
Ералашный (сквозь зубы). Только!..
Наянов. Я слышал, что наш Дутиков болен?
Авдотья Ивановна. Да. Представьте себе, какая досада!
Наянов (с важностию). Мы много потеряем. Его афоризмы носят на себе отпечаток гениальности. Какая глубина, какой взгляд, какая энергия, какое беспрерывное проявление обособленных идей, как развертывает он эту высокую идею Гегеля, что бытие и небытие одно и то же! О, конечно, появление его афоризмов сделает эпоху в нашей словесности!
Авдотья Ивановна. Ну вот, скажите пожалуйста!.. Ах, как я на него сердита!
Наянов. Помилуйте, за что?… Разве от нас зависит…
Авдотья Ивановна. Конечно, конечно!.. Но если б он захотел!.. Да что об этом говорить!.. Messieurs et mesdames, милости прошу ко мне в кабинет. (Все встают.)
Наянов (Сицкой). Неофит Платонович начнет своею повестию, а потом уж я прочту мой взгляд на русскую словесность. Мы с ним так согласились.
Авдотья Ивановна. Как вам угодно. (Хозяйка, а за нею все выходят из гостиной.)
Кабинет Авдотьи Ивановны Сицкой. За круглым столом сидит Неофит Платонович Ералашный. Перед ним стоит графин с водою, сахарница с мелким сахаром и стакан. По правую его сторону Наянов, по левую Букашкина, Суховольская, обе барышни-сочинительницы, хозяйка, Рыльский и Гуськов. Остальные слушатели несколько поодаль, а всех далее от стола, в темном углу, сидит, развалившись на спокойных креслах, Андрей Степанович Лычкин; он спит.
Ералашный (дочитывая свою повесть). «Ступай! — прогремел невидимый голос. — Ступай, гостья неземная; давно желанный час твоей свободы наступил! Ты путем страданий достигла до самопознания; для тебя нет вещественных преград!.. И вдруг с громовым треском блестящей пылью рассыпался хрустальный бокал, и обновленная душа на радужных своих крылах взвилась огненной струею к небесам. Как призраки, замелькали вокруг ее бесчисленные миры; казалось, они тонули в какой-то бездонной мрачной бездне, а душа парила все выше и выше! Она стремилась туда, где нет ни времени, ни пространства, — туда, где конечное, сливаясь с бесконечным, исчезает и в то же время живет новой, непостижимой для нас жизнию!» (Манускрипт выпадает у него из рук, и он, по-видимому в совершенном изнеможении, опускается на кресла.)
Авдотья Ивановна. Вы кончили? (Ералашный отвечает наклонением головы.)
Суховольская. Ах, какая прелесть!
Авдотья Ивановна. Как мы вам благодарны!
Наянов. Вот она — истинная-то поэзия!
Гуськов. Поэзия? Так это в стихах?… Скажите пожалуйста, — не заметил!
Букашкина. Вы наш Гофман, Неофит Платонович!
Наянов. Нет, извините, я с вами не согласен! Наш знаменитый друг вовсе не походит на Гофмана: у него можно скорей найти сходство с Жан-Поль Рихтером, но и тот несравненно его ниже.
Суховольская. Как эта душа меня интересовала!
Гуськов. Да-с, понатерпелась, горемычная! (Общий невнятный шепот восторга между неговорящих лиц.)
Лычкин (проснувшись). Браво, мосье Ералашный, браво!.. (Подают мороженое.)
Авдотья Ивановна (Рыльскому вполголоса). Что вы скажете об этой повести?
Рыльский (также вполголоса). Я не очень люблю этот род.
Авдотья Ивановна. И, Артемий Захарьич!.. Все роды хороши, исключая скучного.
Рыльский. Да мне было скучно.
Авдотья Ивановна. Тс!.. Тише!.. Что вы!.. (Громко.) Еще раз покорнейше благодарим вас, Неофит Платонович! Мы слушали вас с истинным наслаждением.
Ералашный. Быть может, я напишу что-нибудь в этом роде посерьезнее, а это так — небольшая попытка, и мне должно благодарить вас, что вы слушали с таким вниманием эту безделку.
Букашкина (Суховолъской). Как он скромен!
Суховольская. Это всегда признак истинного таланта.
Наянов. Вы называете это безделкою, Неофит Платонович! Дай-то бог, чтобы у нас было побольше таких безделок! Ведь это уж не «Мои безделки» Карамзина, которыми так простодушно восхищались наши бабушки.
Гуськов (тихо Рыльскому). Ого, как он поговаривает о Карамзине! Слышите, Артемий Захарьич?
Рыльский. Слышу.
Гуськов. Ну вот видите ли? Я вам говорил, что он человек ученый.
Наянов. На бесплодном поле нашей словесности много крапивы и репейнику. Давайте нам почаще цветов, Неофит Платонович!
Ералашный. Мы все должны вас просить об этом, Варсонофий Николаевич!
Наянов. Что я!.. Моя миссия тяжка и неблагодарна; я должен говорить горькие истины, преследовать бездарность и, несмотря на детские возгласы невежественной толпы, идти по тому тернистому пути, на котором растут розы для вас одних, Неофит Платонович!
Ералашный. Нет, Варсонофий Николаевич, не говорите! Высоко и ваше назначение: вы очищаете нашу словесность от плевел.
Наянов. А вы даете ей жизнь и самобытность.
Рыльский (про себя). Ну, пошли кадить друг другу!
Ералашный. Вы сокрушаете кумиры, которым до сих пор поклоняется толпа.
Наянов. Стараюсь, по крайней мере, но вы не можете себе представить, как упряма эта грубая, невежественная толпа: если книга ей нравится, так вы ее никак не убедите, что эта книга дурна.
Ералашный. Что вам на это смотреть?
Наянов. Да я и не смотрю.
Авдотья Ивановна. Варсонофий Николаевич, теперь очередь за вами!
Наянов (обращаясь с вежливым поклоном ко всем слушателям). Я чувствую всю невыгоду моего положения; после такого увлекательного чтения всякая ученая статья должна вам показаться и скучной и сухою. К тому ж и самый предмет ее не заключает в себе почти ничего интересного. Я намерен говорить с вами о русской словесности, то есть рассказывать историю дитяти, который еще в пеленках. Мы до сих пор называли его детский, нескладный крик поэзиею, а бессмысленный лепет прозою. Мы и теперь еще толкуем о какой-то народной литературе, как будто бы у нас есть какая-нибудь литература! Прошу сказать, что у нас написано с тех пор, как мы выучились кой-как писать? Чем можем мы похвастаться перед Западом? Чье имя назовем мы с гордостию?…
Рыльский (улыбаясь). Это, вероятно, риторическая фигура, а не вопрос?
Наянов. Извините! Простой, обыкновенный вопрос, на который отвечать очень легко: у нас не было литературы и нет ее! Несколько современных нам великих писателей, опередивших свой век, не составляют еще народной словесности: она должна быть богата прошедшим. Конечно, есть люди, которые воображают, что им удалось собрать русскую библиотеку, что у них стоят на полках русские знаменитые писатели… Эта детская мечта забавляла и теперь еще забавляет многих.
Гуськов. Мечта-с?… Нет, уж это слишком, воля ваша!.. Так поэтому и моя русская библиотека мечта?
Наянов. Разумеется.
Гуськов. Нет, уж извините!.. Я за нее деньги платил!
Наянов. Очень жаль! Вы могли бы употребить их лучше.
Авдотья Ивановна. Не угодно ли вам начать, Варсонофий Николаевич?
(Наянов вынимает из кармана довольно толстую тетрадку, кладет ее на стол, выпивает стакан сахарной воды и начинает читать.)