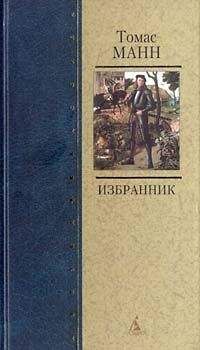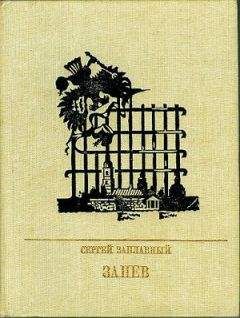– Тебе он тоже это сказал? – спросил Аниций не без некоторого огорчения. – Признаюсь, я думал, что он сказал это только мне.
– Секст, ты говоришь так, словно…
– Да, мой Либерии, мне тоже явился умилительный агнец и сподобил меня великого откровения, по-видимому, в тот же самый час, что и тебя. Мало того, он поведал мне также, что я избран, каких бы это ни стоило трудов, разыскать святого мужа и привести его в Рим.
– Но ведь я как раз собирался тебе сказать, – воскликнул Либерии, – что священная миссия возложена им на меня – стало быть, также и на меня!
– Стало быть, также и на тебя, – сказал Проб. – Стало быть, на нас обоих, на каждого из нас, и притом одновременно. Какое чудо, друг! Агнец был у тебя на балконе, и он же был у меня в саду, и с каждым из нас он говорил так, словно говорил только с ним одним. «Храбро переберись через Альпы», – сказал он…
– «И направься в вечерние и полнощные края», – подхватил Либерии.
И они, перебивая друг друга, повторили все, что сказал им агнец и что более или менее точно указывало местопребывание избранника.
– Ах, агнец! – восклицали они снова и снова, порознь и слитно. Ибо никак не могли отделаться от общих воспоминаний о хватающем за сердце образе агнца, о его бесконечно кротких, с длинными ресницами, глазах, о трогательных движениях его рта, о дрожи в его сладостном голосе, о крови, стекавшей с завитков его шерсти. Они встали перед саркофагом, бросились друг другу в объятья и расцеловались, невзирая на разницу в росте, с влажными от слез щеками. Проб припал головой к груди Либерия, орошая слезами его далматик, а Либерии, склонив голову набок, с благочестиво опущенным уголком рта, задумчиво глядел вдаль.
– Ах, еще и розы, – вспомнил, прижавшись к его груди, Проб, – розы, в которые превратилась ягнячья кровь, когда я оробел было перед своей миссией.
– Розы? – спросил Либерии, ослабляя объятия. – О них я ничего не знаю.
– У меня было множество роз, – заверил его Проб. – Их аромат совершенно вытеснил благоухание лавра.
– А я, – отвечал Либерии и освободился от объятий, – могу только повторить, что мне не дано было видеть никаких роз. Но не будем, друг мой, оскорблять столь дивное знаменье, завистливо взирая один на другого! Я полагаю, что агнец, обращаясь ко мне как к сыну и князю церкви, не счел нужным подкреплять мою веру подобным чудом.
– Разумеется, дорогой мой, это вполне возможно, – согласился с ним Аниций, – хотя ты и не должен осуждать меня за то, что я восхищаюсь поэтичностью этого зрелища, выпавшего мне на долю, и призываю тебя разделить мое восхищенье. Но прежде всего нам следует восхищаться мудростью агнца, который поведал о состоявшемся избрании и поручил отправиться на поиски папы не кому-то одному из нас, будь то тебе или мне, а нам обоим. Насколько увереннее отправимся мы в дорогу вдвоем, чем если бы это указание было дано только одному! Трудно верить, не имея единоверца, и нельзя отрицать, что действия, вытекающие из совершенно личной и одинокой веры, недалеки от глупости. А наши сограждане? Согласись, друг, что, для того чтобы действовать, нам необходимо их доверие. Правда, мы оба такие люди, что наше слово равносильно для римлян клятве. Но разве мы порознь удивились бы, если бы это откровение было истолковано как ничего не значащая причуда послеобеденного сна? В том-то и состоит мудрость агнца, что он раздвоил видение и позаботился о двух свидетелях, согласные показания которых, совпадающие во всем, кроме такой подробности, как розы, должны победить любое сомнение. Хорошо ли я говорил?
– Ты говорил превосходно, мой друг, – отвечал Либерии. – Каждое твое слово доказывает, что титулами и должностями ты лишь отчасти обязан своему древнему имени. Да, рука об руку предстанем мы пред собранием, которое вскорости будет созвано, и с сердцами, полными воспоминаний об агнце, дружно засвидетельствуем чудо, которого мы сподобились.
Семнадцать лет рыбака и его жену никто не навещал в их озерной глуши, как, наверно, и прежде, в теченье такого же срока. Тем ярче, хотя они никогда об этом не говорили, запечатлелся в их памяти тот, кого они однажды – муж со злостью и бранью, а жена – с благочестивыми предчувствиями – приютили у себя в доме. Добавлю, что муж избегал этих воспоминаний и всячески старался от них отделаться. Ибо ему всегда казалось, будто он, хоть и действуя в полном соответствии с желанием и волей незнакомца, совершил тогда какое-то преступление, точнее – убийство; а от подобных воспоминаний предпочитают отделаться. И это ему в общем-то удалось, если говорить о поверхностных областях его памяти, ибо он все-таки виделся с людьми, когда носил на рынок в ближайшую деревню, до которой было два часа ходу, своих чебаков, линей и плотву, и эти встречи его немного рассеивали. Зато жена его никого не видела, она жила и увядала в глуши и одиночестве, близ своего угрюмого мужа, и так как у нее, в отличие от него, не было причин отделываться от воспоминаний о столь давней истории, то она все эти годы молча хранила ее в душе и думала о прекрасном, смиренном нищем, за которым побежала в дождь и которому принесла камыш для подстилки, думала часто, ежедневно, и в глазах ее стояли слезы.
Не надо придавать особого значения тому, что от этих воспоминаний глаза ее увлажнялись, ибо ей вообще ничего не стоило поплакать; вернее, она даже не плакала, а просто, ничуть не меняясь в лице и без видимого, хотя бы ей самой известного, повода, тихо роняла слезинки, катившиеся по ее впалым щекам, почему ее муж, рыбак, всегда называл ее плаксой. От общения и соприкосновения с людьми он закалился, очерствел и огрубел, тогда как его жена, лишенная этой отдушины и снедаемая одиночеством, была нежна душой и чувствительна, как мимоза.
И вот для них обоих настал день, который во многих отношениях был днем чудес, – и этот, и в придачу еще и следующий. Тот день начался очень удачно, ибо рано утром рыбак поймал неводом отменную рыбину, щуку, какие редко встречаются. Это была щука на диво, величиной чуть ли не с акулу, более семи футов в длину, прекрасного черного крапа, с жадной, хищно ощерившейся пастью. Для мелких озерных рыбешек ее поимка, избавившая их от такого тирана, явилась, несомненно, благодеянием божьим. Рыбаку пришлось выдержать настоящую борьбу с этой дикой тварью, прежде чем он размозжил ей голову о борт челнока. То была счастливая добыча, какою редко баловала его судьба. Рыбак хотел назавтра с утра отнести на рынок вкусное жарево и выгодно продать его.
Таково было его намеренье, и действительно ему суждено было выручить за это жарево хорошие деньги, и даже не назавтра, а в тот же день, и не в дальней деревне, а у себя дома. Ибо еще в тот же день к рыбаку и его жене снова наведались гости.
В предвечерний час, как это было когда-то и как часто бывало, супруги стояли перед своей хижиной и глядели вдаль: как свойственно тем, кто скорее ожесточенно, чем радостно, пользуется счастливым случаем, рыбак, борода которого уже совсем поседела, с мрачной гордостью думал о своей великолепной рыбе, а жена его тихо роняла слезы, склонив голову набок и не меняясь в лице. Они не говорили друг с другом, как это было когда-то и как бывало не раз. Наступала осень; стоял сентябрь, и холмы, сбегавшие к озеру, были в тот вечер тускло освещены. Над ними висели тучи, затемнившие при садящемся солнце часть неба и уже готовые излиться дождем.
Тут они увидали, что вдалеке, по извилистой лесной тропке, один за другим в долину спускаются всадники.
Они долго молчали. Потом рыбак хрипло промолвил одно только слово:
– Всадники.
– Боже правый! – сказала жена. Она сложила руки, и две прозрачных слезинки покатились по ее щекам.
Потом они снова умолкли и только недвижно и пристально следили, как приближаются незнакомцы.
– Три всадника и один мул без седока, – хрипло проговорил через несколько мгновений рыбак.
– И один без седока! – повторила жена и плотнее сложила руки. Она подняла их к лицу и прибавила: – Без седока – белый.
Так оно и было: двое, если только позволяла дорога, ехали рядышком впереди, оставляя третьего за собой. Это был слуга, его мул был навьючен тугими тюками. Он вел на поводу четвертого мула, ненавьюченного, белого, с белым седлом и белой уздечкой. Господа, ехавшие спереди, сидели тоже на добрых длинноногих мулах, отлично оседланных и взнузданных. То были пожилые люди, разного роста, один – маленький, другой – долговязый, укутанные в дорожные плащи с капюшонами. Они остановились почти рядом с остолбеневшими супругами, которые только глазели на них разинув рты и даже забыли поклониться. Низкорослый произнес вечернее приветствие и спросил, обращаясь к мужу:
– Друг мой, это глушь?
– Так точно, глушь, – оживился рыбак.
– Совершенная глушь? – спросил высокий и измерил рыбака испытующим взглядом, тяжело и смиренно опустив один уголок рта.