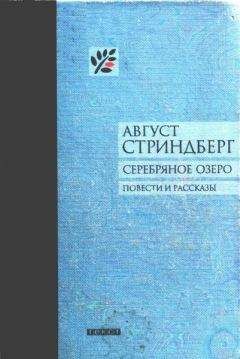В суде первой инстанции его в конечном счете приговорили к выплате расхитителю вознаграждения за убытки в размере трех тысяч крон. Прекратив сетования, Либоц обратился в апелляционный суд. Асканию же заметил:
— Удивительно, что дела об оскорблении чести затевают исключительно люди бесчестные.
— Неужели ты еще веришь в справедливость и победу добра над злом? — высмеял его трактирщик.
— Верю, — отозвался Либоц, — хотя иногда надежд почти не остается. И все же, братец, на свете есть много необъяснимых вещей.
Время от времени Асканий даже восхищался адвокатом, однако больше просто размышлял о нем, обсуждал его с прокурором и, если чувствовал себя отдохнувшим и бодрым, приходил к двоякому выводу: либо этот Либоц наихитрейший из пройдох, либо он ангел. Но в уставшем и полусонном состоянии трактирщик разделывался с Либоцем одним ударом: осел!
Сам адвокат пробирался по городу задворками, понурившись и вобрав голову в плечи; он пожелтел лицом и постепенно становился все безобразнее, внушал к себе отвращение, смешанное со страхом. Ведь когда он сталкивался на улице с ненавидящими взорами, то не пытался уклониться от них, а едва ли не подставлялся; и, читая на физиономии всякого встречного антипатию к себе, он поначалу испытывал чувство, будто его обвиняют в том, сем, пятом и десятом, и пускался в долгие оправдательные речи с самим собой, однако из-за того, что адвокат слишком много занимался чужими злыми мыслями, они прилипали к нему, словно репьи. Нередко Либоца настолько подавляла всеобщая ненависть, что он доходил до умопомешательства и убеждал себя: не может быть, чтобы во всем городе, где живут люди ничуть не хуже меня, прав один только несчастный я… И принимался винить себя во всех мыслимых и немыслимых грехах: делал из мухи слона, выкапывал провинности забытые и искупленные, а потому становился в собственных глазах самым худшим человеком на свете. Теперь, когда ему больше не нужно было наряжаться ради женщины, адвокат стал с небрежением относиться к своему платью; нельзя сказать, чтобы он ходил в рваном или заношенном либо же был нечистоплотен, но одежда более «не сидела» на Либоце, поскольку его обманывал портной: снимал мерку, получал оплату как за работу на заказ, а сам подсовывал адвокату готовое платье. Когда кто-то раскрыл сей обман перед Либоцем, тот отозвался: «А что тут поделаешь?» Неудивительно, что он беспрестанно подергивал плечами, пытаясь поудобнее уложить на себе одежду, и то расстегивал, то снова застегивал жмущий в груди сюртук; более всего ему досаждала шляпа, которая часто съезжала набок, так что приходилось мотать головой из стороны в сторону, чтобы посадить ее на место.
По воскресеньям Либоц после службы в церкви шел со своей черной сумкой проведать в лечебнице отца, которого всеобщая ненависть почти доконала: отец мучился тремя разными болезнями и уже не вставал с постели.
Там сыну выпадал лишний час пыток. Отец принимал все лживые сплетни всерьез и, исходя из неверных предпосылок, приступал к адвокату с упреками, увещеваниями, предостережениями. Сын давно перестал отвечать на них, поскольку втолковать старику что-либо разумное все равно было невозможно; оставалось лишь отвлечь его внимание, увести к другой теме, и такой темой была подделка пищевых продуктов. Тут отец становился необыкновенно красноречив. Сначала он защищал подделку со своей точки зрения бывшего торговца, рассматривал ее как один из аспектов экономики и демократии, развивал теорию сохранения материи. Затем, вспомнив о своих теперешних муках в качестве потребителя, внезапно менял точку зрения и принимался жаловаться, и его сетованиям не было конца до самого ухода сына, когда звучала коронная фраза:
— Как, ты уже уходишь?
— Мне пора, время для посещений истекло.
— Ты всегда найдешь, чем отговориться!
Сын стыдился, как будто сказал неправду, и, по строгому счету, так оно и было: ведь он ссылался на правила только в виде предлога.
Дела адвоката шли неплохо, но в основном благодаря его репутации пройдохи, который не стесняется в средствах. На этой незаслуженной репутации он получал хороший барыш. Либоц и сам понимал это, а еще читал в глазах клиентов, что они вроде бы находятся в тайном сговоре с плутом, которого вырастили из черенка собственной злобы и привили к его дереву. В конце концов Либоц стал воспринимать свое второе «я» как лицо, существующее независимо от него, и сам внутренне содрогался от такого положения.
А тут еще городские ведомости начали помещать карикатуры, и Либоц мгновенно попал в число героев. Когда он впервые увидел себя в карикатурном виде, изображенного в связи с «Адвокатом Книвингом» и бедной старушкой (донес на него, разумеется, прокурор), Либоц чуть не сошел с ума. С ужасом глядя на свое изображение, он спрашивал себя: неужели я похож на это пугало? И ему казалось, что и в самом деле похож; Либоц разглядывал себя в зеркале, сравнивал с карикатурой и таки находил сходство. Тут он уже испугался себя самого, решил, что не может составить о себе верного мнения, потому что прожженный лицемер, подумал, что проклят, направился в храм, но поворотил оттуда и ушел за город, где, по обыкновению, спорил с Богом, так что на квартиру вернулся успокоенный и заново утвержденный в своей вере, после чего можно было продолжать жить.
* * *
Вскоре наступило лето и народ разъехался, а когда Асканиева Карин перебралась в другой город, Либоц возвратился в привычный ему трактир, причем сделал это с удовольствием, тем более что теперь можно было сидеть среди цветов, под деревьями, и смотреть на текущую рядом реку. Правда, Аскания там почти не было видно: он отделывал новый дом на площади.
Либоц уже неделю сидел под своей никогда не плодоносившей яблоней и каждый вечер видел, как прокурор напрасно ищет себе компанию. После омерзительного казуса с тяжбой эти двое безо всякого объяснения избегали друг друга. Сегодня Черне опять ходил от столика к столику в поисках человека, с которым мог бы поговорить. Видя отчаявшееся, изголодавшееся по общению лицо одинокого прокурора, Либоц сочувствовал ему.
— Может, присядешь ко мне? — предложил адвокат.
— Почему бы и нет? — ответил Черне. — Если ты на меня не зол…
— Не зол, не зол!
— Я, конечно, предал тебя, но такова моя профессия, — сказал прокурор.
иногда ему самому казалось, что он заходит слишком далеко, и он раскаивался в сказанном, но тут же начинал стыдиться этого раскаяния, считать себя трусом, так что в какую-то минуту, доведенный страхами до смелости отчаяния, он взял и выложил адвокату все интриги властей. Временами он оглядывался по сторонам в поисках подслушивающих, пугался, запивал трусость коньяком и снова открывал шлюзы, пока его не обуял панический страх из-за упорного молчания Либоца.
— Ты ничего не говоришь, тогда как я своими разговорами закладываю собственную голову.
— Я забуду все, что ты сказал, — заверил адвокат.
— Ты не выдашь меня?
— Я не из таких, — просто ответил Либоц.
Черне различил в этой фразе укор себе, но вступать в спор ему было лень, тем более что прокурор настроился на приятный вечер. Он пропустил фразу мимо ушей, однако его словоохотливость по-прежнему требовала выхода, и он не мог отказать себе в удовольствии в кои-то веки выговориться. Он поделился своим мнением о Шёгреновой тяжбе, признал, что писарь — мошенник, который вскорости, не без поддержки сильных мира сего, заведет в городе собственную контору; прокурору было известно, что Либоц проиграет в апелляционном суде, но, возможно, выиграет в верховном, если добьется пересмотра дела. Затем Черне открыл новую главу рассуждений — посвященную Карин — и прежде всего поздравил Либоца с разрывом, ведь эта девушка совершенно ему не подходит, как, впрочем, и все остальные…
Тут нить разговора перехватил Либоц, который признал, что оказался недостоин Карин, что сам во всем виноват, потому что женщинам безумно скучно в его обществе. Когда они некоторое время помолчали, Черне начал закруглять беседу: после вдохновенных излияний на куда более важные темы любой разговор о пустяках звучал банально, и прокурор оставил всякие попытки заинтересовать собеседника. Угрызения совести, раскаяние и страх склоняли Черне к тому, чтобы уйти, тем более что он чувствовал множество взглядов, пытливо устремленных на него сквозь табачный дым, поэтому он встал из-за стола, прикрывая отход храбрыми заверениями, что готов подтвердить каждое сказанное им слово перед кем угодно.
— Мне ровным счетом все равно, если мои речи дойдут до властей. Им даже полезно было бы послушать!
На том и расстались.
* * *
Подошло первое октября, когда Асканий к обеденному часу открыл свой новый ресторан с кофейней. На фасаде двухфутовыми золотыми буквами было написано одно-единственное слово: «Асканий» — с явным прицелом, чтобы его можно было без очков прочесть из «Городского погребка». В отделке преобладали два цвета, белый и золотой, а еще там было полно зеркал. Либоц осторожно предупреждал Аскания, чтобы он не слишком увлекался зеркалами: