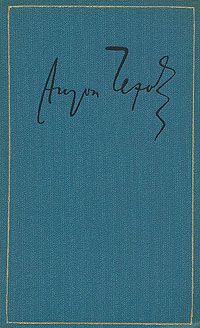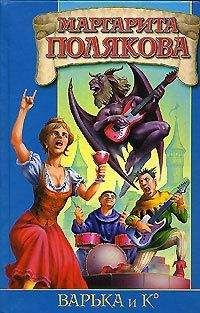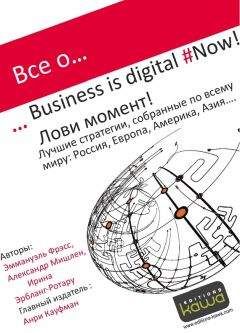– Как много домов!
– Это что! – сказал медик. – В Лондоне в десять раз больше. Там около ста тысяч таких женщин.
Извозчики сидели на козлах так же покойно и равнодушно, как и во всех переулках; по тротуарам шли такие же прохожие, как и на других улицах. Никто не торопился, никто не прятал в воротник своего лица, никто не покачивал укоризненно головой… И в этом равнодушии, в звуковой путанице роялей и скрипок, в ярких окнах, в настежь открытых дверях чувствовалось что-то очень откровенное, наглое, удалое и размашистое. Должно быть, во время оно на рабовладельческих рынках было так же весело и шумно и лица и походка людей выражали такое же равнодушие.
– Начнем с самого начала, – сказал художник.
Приятели вошли в узкий коридорчик, освещенный лампою с рефлектором. Когда они отворили дверь, то в передней с желтого дивана лениво поднялся человек в черном сюртуке, с небритым лакейским лицом и с заспанными глазами. Тут пахло, как в прачечной, и кроме того еще уксусом. Из передней вела дверь в ярко освещенную комнату. Медик и художник остановились в этой двери и, вытянув шеи, оба разом заглянули в комнату.
– Бона-сэра, сеньеры, риголетто-гугеноты-травиата! – начал художник, театрально раскланиваясь.
– Гаванна-таракано-пистолето! – сказал медик, прижимая к груди свою шапочку и низко кланяясь.
Васильев стоял позади них. Ему тоже хотелось театрально раскланяться и сказать что-нибудь глупое, но он только улыбался, чувствовал неловкость, похожую на стыд, и с нетерпением ждал, что будет дальше. В дверях показалась маленькая блондинка лет 17–18, стриженая, в коротком голубом платье и с белым аксельбантом на груди.
– Что ж вы в дверях стоите? – сказала она. – Снимите ваши пальты и входите в залу.
Медик и художник, продолжая говорить по-итальянски, вошли в залу. Васильев нерешительно пошел за ними.
– Господа, снимайте ваши пальты! – сказал строго лакей. – Так нельзя.
Кроме блондинки, в зале была еще одна женщина, очень полная и высокая, с нерусским лицом и с обнаженными руками. Она сидела около рояля и раскладывала у себя на коленях пасьянс. На гостей она не обратила никакого внимания.
– Где же остальные барышни? – спросил медик.
– Они чай пьют, – сказала блондинка. – Степан, – крикнула она, – пойди скажи барышням, что студенты пришли!
Немного погодя в залу вошла третья барышня. Эта была в ярко-красном платье с синими полосами. Лицо ее было густо и неумело накрашено, лоб прятался за волосами, глаза глядели не мигая и испуганно. Войдя, она тотчас же запела сильным, грубым контральто какую-то песню. За нею показалась четвертая барышня, за нею пятая…
Во всем этом Васильев не видел ничего ни нового, ни любопытного. Ему казалось, что эту залу, рояль, зеркало в дешевой золотой раме, аксельбант, платье с синими полосами и тупые, равнодушные лица он видел уже где-то и не один раз. Потемок же, тишины, тайны, виноватой улыбки, всего того, что ожидал он здесь встретить и что пугало его, он не видел даже тени.
Всё было обыкновенно, прозаично и неинтересно. Одно только слегка раздражало его любопытство – это страшная, словно нарочно придуманная безвкусица, какая видна была в карнизах, в нелепых картинах, в платьях, в аксельбанте. В этой безвкусице было что-то характерное, особенное.
«Как всё бедно и глупо! – думал Васильев. – Что во всей этой чепухе, которую я теперь вижу, может искусить нормального человека, побудить его совершить страшный грех – купить за рубль живого человека? Я понимаю любой грех ради блеска, красоты, грации, страсти, вкуса, но тут-то что? Ради чего тут грешат? Впрочем… не надо думать!»
– Борода, угостите портером! – обратилась к нему блондинка.
Васильев вдруг сконфузился.
– С удовольствием… – сказал он, вежливо кланяясь. – Только извините, сударыня, я… я с вами пить не буду. Я не пью.
Минут через пять приятели шли уже в другой дом.
– Ну, зачем ты потребовал портеру? – сердился медик. – Миллионщик какой! Бросил шесть рублей, так, здорово-живешь, на ветер!
– Если она хочет, то отчего же не сделать ей этого удовольствия? – оправдывался Васильев.
– Ты доставил удовольствие не ей, а хозяйке. Требовать от гостей угощения приказывают им хозяйки, которым это выгодно.
– «Вот мельница… – запел художник. – Она уж развалилась…»
Придя в другой дом, приятели постояли только в передней, но в залу не входили. Так же, как и в первом доме, в передней с дивана поднялась фигура в сюртуке и с заспанным лакейским лицом. Глядя на этого лакея, на его лицо и поношенный сюртук, Васильев подумал: «Сколько должен пережить обыкновенный, простой русский человек, прежде чем судьба забрасывает его сюда в лакеи? Где он был раньше и что делал? Что ждет его? Женат ли он? Где его мать и знает ли она, что он служит тут в лакеях?» И уж Васильев невольно в каждом доме обращал свое внимание прежде всего на лакея. В одном из домов, кажется, в четвертом по счету, был лакей маленький, тщедушный, сухой, с цепочкой на жилетке. Он читал «Листок» и не обратил никакого внимания на вошедших. Поглядев на его лицо, Васильев почему-то подумал, что человек с таким лицом может и украсть, и убить, и дать ложную клятву. А лицо в самом деле было интересное: большой лоб, серые глаза, приплюснутый носик, мелкие, стиснутые губы, а выражение тупое и в то же время наглое, как у молодой гончей собаки, когда она догоняет зайца. Васильев подумал, что хорошо бы потрогать этого лакея за волосы: жесткие они или мягкие? Должно быть, жесткие, как у собаки.
III
Художник оттого, что выпил два стакана портеру, как-то вдруг опьянел и неестественно оживился.
– Пойдемте в другой! – командовал он, размахивая руками. – Я вас поведу в самый лучший!
Приведя приятелей в тот дом, который, по его мнению, был самым лучшим, он изъявил настойчивое желание танцевать кадриль. Медик стал ворчать на то, что музыкантам придется платить рубль, но согласился быть vis-?-vis. Начали танцевать.
В самом лучшем было так же нехорошо, как и в самом худшем. Тут были точно такие же зеркала и картины, такие же прически и платья. Осматривая обстановку и костюмы, Васильев уже понимал, что это не безвкусица, а нечто такое, что можно назвать вкусом и даже стилем С – ва переулка и чего нельзя найти нигде в другом месте, нечто цельное в своем безобразии, не случайное, выработанное временем. После того, как он побывал в восьми домах, его уж не удивляли ни цвета платьев, ни длинные шлейфы, ни яркие банты, ни матросские костюмы, ни густая фиолетовая окраска щек; он понимал, что всё это здесь так и нужно, что если бы хоть одна из женщин оделась по-человечески или если бы на стене повесили порядочную гравюру, то от этого пострадал бы общий тон всего переулка.
«Как неумело они продают себя! – думал он. – Неужели они не могут понять, что порок только тогда обаятелен, когда он красив и прячется, когда он носит оболочку добродетели? Скромные черные платья, бледные лица, печальные улыбки и потемки сильнее действуют, чем эта аляповатая мишура. Глупые! Если они сами не понимают этого, то гости бы их поучили, что ли…»
Барышня в польском костюме с белой меховой опушкой подошла к нему и села рядом с ним.
– Симпатичный брюнет, что ж вы не танцуете? – спросила она. – Отчего вы такой скучный?
– Потому что скучно.
– А вы угостите лафитом. Тогда не будет скучно.
Васильев ничего не ответил. Он помолчал и спросил:
– Вы в котором часу ложитесь спать?
– В шестом.
– А встаете когда?
– Когда в два, а когда и в три.
– А вставши, что делаете?
– Кофий пьем, в седьмом часу обедаем.
– А что вы обедаете?
– Обыкновенно… Суп или щи, биштекс, дессерт. Наша мадам хорошо содержит девушек. Да для чего вы всё это спрашиваете?
– Так, чтоб поговорить…
Васильеву хотелось поговорить с барышней о многом. Он чувствовал сильное желание узнать, откуда она родом, живы ли ее родители и знают ли они, что она здесь, как она попала в этот дом, весела ли и довольна или же печальна и угнетена мрачными мыслями, надеется ли выйти когда-нибудь из своего настоящего положения… Но никак он не мог придумать, с чего начать и какую форму придать вопросу, чтоб не показаться нескромным. Он долго думал и спросил:
– Вам сколько лет?
– Восемьдесят, – сострила барышня, глядя со смехом на фокусы, какие выделывал руками и ногами плясавший художник.
Вдруг она чему-то захохотала и сказала громко, так, что все слышали, длинную циническую фразу. Васильев оторопел и, не зная, какое выражение придать своему лицу, напряженно улыбнулся. Улыбнулся только один он, все же остальные – его приятели, музыканты и женщины даже и не взглянули на его соседку, точно не слышали.
– Угостите лафитом! – опять сказала соседка.
Васильев почувствовал отвращение к ее белой опушке и к голосу и отошел от нее. Ему уж казалось душно и жарко, и сердце начинало биться медленно, но сильно, как молот: раз!-два!-три!