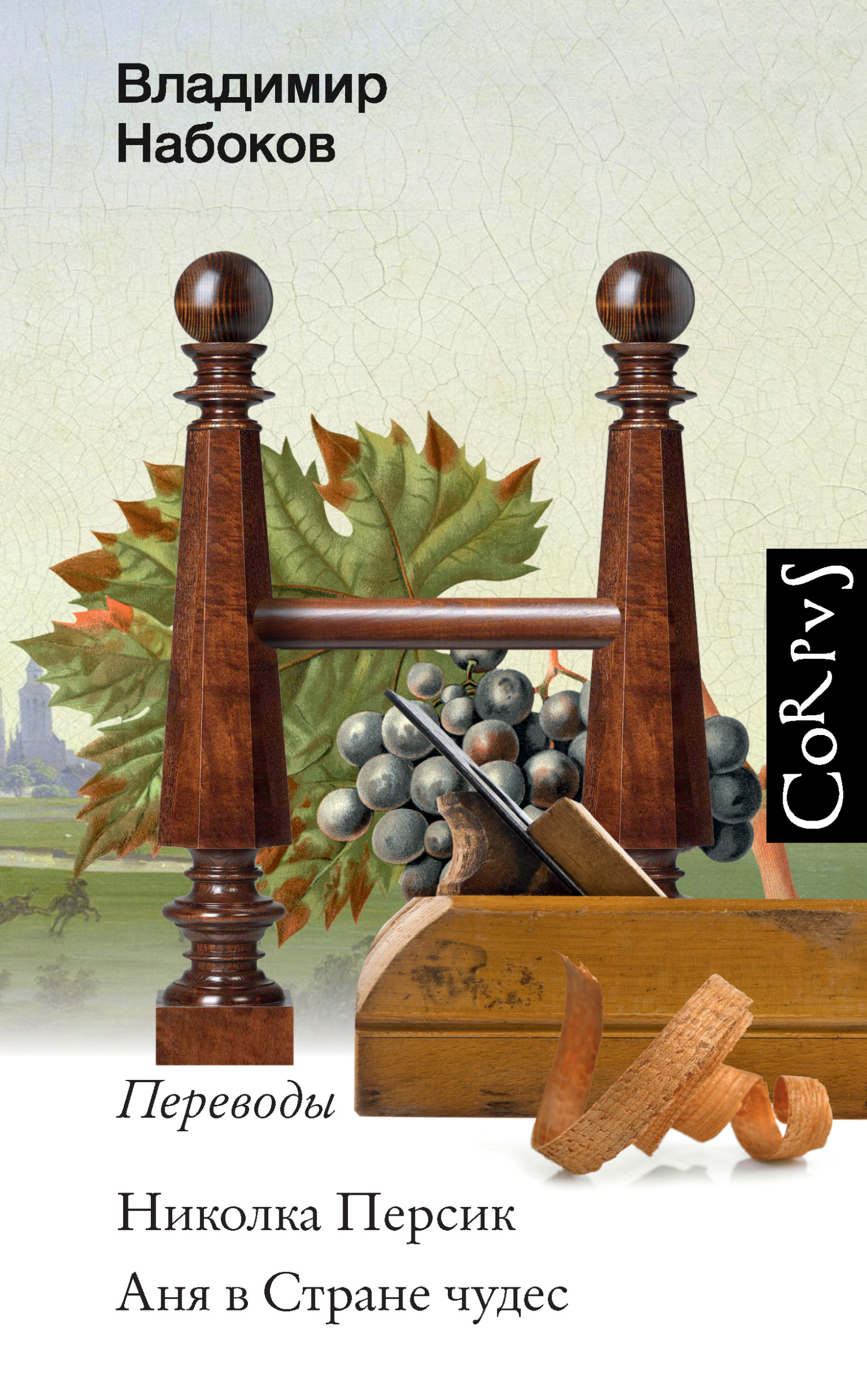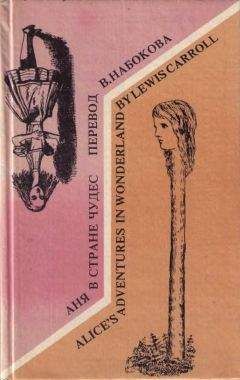волоча Гамзуна за жирные волосы.
Мы вышли из ада и удалились, предоставляя огню окончить дело свое. И меж тем, чтобы волненье свое задушить, мы тумачили Гамзуна, эту скотину, которая хоть и чуть не околела, удержала, прижав их к сердцу, два блюда эмалевых и миску расцвеченную, Бог весть где наворованные!.. И Гамзун, отрезвившись, шел, рыдая, раскидывая свои посудины, останавливался на ветру, выпуская крутую струю, и кричал:
– Все, что накрал, все отдаю!
На рассвете стряпчий, Василий Куртыга, прибыл в сопровождении Шутика, который гнал вовсю. Тридцать ратников да кучка вооруженных крестьян дополняли шествие. В продолжение дня пришли еще другие, которых привел Николка [71]. На следующий день наш добрый герцог послал еще подкрепленья. Они ощупали теплую золу, составили перечень повреждений, сосчитали убытки, прибавили к этому стоимость своего путешествия и – поминай как звали…
Смысл всего сказанного: «Помоги себе, король поможет тебе».
Конец сентября
Восстановился порядок, пепел остыл, и о заразе никто уже не говорил. Но город сперва был как будто придавлен. Жители пережевывали свой ужас. Они почву ощупывали; не были еще уверены, стоят ли они на ней или она над ними находится. В большинстве случаев в норках таились, а если и выходили на улицу, то семенили вдоль стены, развесив уши и хвост поджав. Да что ж, нечем было гордиться; смотреть в глаза друг другу и то не смели, и не радовало видеть лицо свое в зеркале: слишком хорошо осмотрели они друг друга, раскусили; человеческую природу застали врасплох, в одной рубашке, – вид неприятный! Они пристыжены были и недоверчивы. Я тоже, со своей стороны, неважно себя чувствовал: мысль об избиении, гарь пожара, а пуще всего воспоминанья о подлости, трусости, жестокости, обезобразившие знакомые лица, преследовали меня. Они это знали и втайне на меня досадовали. Понимаю: я был еще больше смущен; если б я мог, то сказал бы им: «Друзья, простите, я ничего не ведал…» И душное сентябрьское солнце тяготело над городом измученным – жар и застой последних летних дней.
Наш друг Ракун уехал под верной стражей в Невер, где герцог и король оспаривали друг у друга честь судить его, так что, пользуясь этим недоразумением, он, вероятно, рассчитывал проскользнуть у них меж пальцев, сквозь которые они, добрые люди, глядели на мои проступки. Оказывается, что, спасая Клямси, я совершил два или три крупных преступленья, пахнувших каторгой. Но так как не случилось бы этого, если б не скрылись законные наши вожди, то ни я, ни они не стали настаивать. Не люблю на глазах правосудия проветривать шкуру свою. Вины за собой не чувствуешь – а как знать? Как пальцем попадешь в это чертовское колесо, – прости, рука! Отрубай, отрубай, не мешкая, если не хочешь быть съеденным…
Итак, заключили мы молчаливое условие: я ничего не сделал, они ничего не видели, а то, что произошло в ту ночь под моим руководством, то было ими же совершено. Но как ни старайся, а сразу стереть прошлое нельзя. Вспоминаешь кое о чем, и вот совестно. Боялись меня: я читал это во всех глазах; и я боялся себя тоже, боялся того Персика незнакомого, нелепого, который такие совершил подвиги. К чорту этого Цезаря, Аттилу, грозу эту! Грозы хмельные – это люблю. Но военные – нет, не мое это дело!.. Словом, мы были пристыжены, телом разбитые и утомленные; ныло сердце, и ныло под ложечкой. С жаром мы за работу принялись вновь. Труд впитывает стыд и горести, как губка. Труд обновляет душу и кровь. Работы было много: сколько развалин повсюду! И тут нам пришла на подмогу – земля. Никогда не бывало такого обилья плодов, урожая такого; и под конец высшей наградой ее оказался сбор винограда. Можно было подумать, что матушка наша земля хотела вернуть нам вином всю кровь, поглощенную ею. Отчего бы так, в самом деле? Ничего не теряется; не должно потеряться. Если б терялось, куда же девалось оно? Вода льется с небес и туда же потом возвращается. Не так ли вино в сделках наших с землей нам за кровь отдается? Сок-то один. Я – лоза, или был я лозой, или ею когда-нибудь стану. Мне любо так думать; я хочу ею быть и не ведаю вечности лучшей, чем претвориться в лозу, в вертоград; тело мое разбухает и выливается в чудные, круглые, сочные ягоды, в черные, бархатно-нежные грозди, они раздуваются, лопаясь в летних лучах, а потом (это слаще всего) их едят.
Как бы то ни было, сок винограда в этот год бил отовсюду, бил через край, земля истекала кровью. Глядь, и бочек уже не хватило; за недостатком сосудов пришлось виноград оставлять в давильном чане, а не то в стирной лохани, даже его не сжимая! Да что! Дивное диво случилось: старик Кулиман, не зная, как быть, продал за тридцать копеек излишек за бочку, с условием только, что сами пойдут виноград собирать. Посудите, каково было наше волненье! Можно ль смотреть хладнокровно, как Господа Бога теряется кровь!
Нечего делать, пришлось ее выпить! Мы собою пожертвовали, мы совестливые. Но был труд геркулесовый, и не раз Геркулес бухался наземь. Однако хорошо в деле этом было то, что перекрасились мысли наши; разошлись морщины, просветлели лица.
А все-таки какая-то горечь оставалась на дне стакана, осадок, вкус ила; мы чуждались друг друга; исподлобья следили. Правда, мы расхрабрились слегка (убив муху); но сосед соседа дичился еще; пил в одиночку, в одиночку смеялся: это очень вредно… Так продолжалось бы долго, не видать было выхода; но судьба с хитрецой. Она умеет найти тот единственный потешный способ, который бы прочно людей связал, а именно: она нас сплочает против кого-нибудь. Любовь тоже соединяет. Но то, что из тысячи рук выливает единый кулак, – это враг. Кто же враг? – Господин наш!
Случилось, что в эту осень герцог Неверский вздумал нам запретить хороводы вести. Однако! Чорт подери! Даже седые, хромые и те почувствовали в икрах мурашки. Как всегда, предметом спора был Голдовный луг. Это вечный тупик, не выйти никак. Этот прекрасный луг находится у подножья горы, у ворот городских, и близ него, как небрежно брошенный серп, серебрится Беврон излучистый. Вот уж триста лет, как его вырывают друг у дружки огромная пасть герцога и наша – более скромных размеров, но зато умеющая удержать схваченное. Впрочем, никакой вражды ни с той, ни с этой стороны; смеемся, соблюдаем вежливость, говорим: «Друг мой, други мои, повелитель наш…»
Но только поступаем мы по-своему, и ни мы,