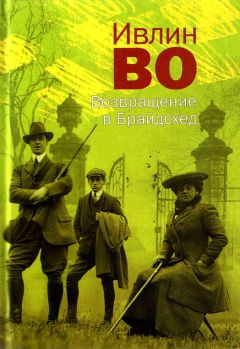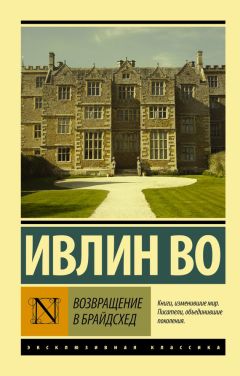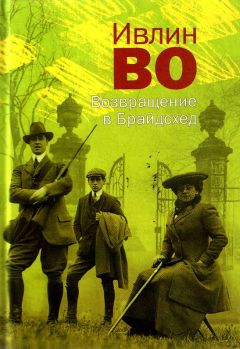— Вы очень добры, что пришли. Мама много раз о вас спрашивала, но не знаю, сможет ли она теперь, после всего, вас видеть. Она только что попрощалась с Адрианом Порсоном, и это ее утомило.
— Попрощалась?
— Да. Она умирает. Может прожить еще неделю или две, а может покинуть нас в любую минуту. Она так слаба. Пойду спрошу сиделку.
Безмолвие смерти уже успело воцариться в доме. В Марчмейн-хаусе в библиотеке никогда не проводили время — это была единственная некрасивая комната на оба дома. В викторианских дубовых шкафах стояли тома Хэнсарда и устаревшие энциклопедии, которые десятки лет никто не открывал; непокрытый стол красного дерева был словно предназначен для каких-то заседаний; вся комната казалась нежилой, как общественное помещение; за окном был виден газон, ограда, тихий переулок.
Вернулась Джулия.
— Нет, к сожалению, к ней нельзя. Она уснула. Она может так дремать часами. Я сама вам передам все, что она хотела. Только пойдемте куда-нибудь отсюда. Терпеть не могу эту комнату.
Она перешла со мною через коридор в малую гостиную, где раньше часто накрывали к обеду, и мы сели в кресла по oбe стороны камина. Пурпур и золото стен бросили свои отсветы на Джулию, и она уже не казалась такой призрачно-бледной.
— Прежде всего, я знаю, мама хотела вам сказать, что очень сожалеет о своей резкости в последнем разговоре с вами. Она, часто об этом говорит. Теперь она знает, что это была ее ошибка. Я не сомневаюсь, что вы все тогда поняли и не придали значения, но мама подобные вещи себе не прощает — она редко делала такие ошибки.
— Пожалуйста, скажите ей, что я все отлично понял.
— Другое, вы, конечно, догадались, — это Себастьян. Она хочет его видеть. Не знаю, осуществимо ли это. Как вы считаете?
— Я слышал, он в очень плохом состоянии.
— Да, мы тоже слышали. Мы телеграфировали по последнему адресу, который у нас был, но не получили ответа. Он, может быть, еще успел бы повидать ее. Я сразу подумала о вас как о единственной надежде, когда узнала, что вы в Англии. Вы поищете его? Это беззастенчивая просьба, но я думаю, Себастьян бы тоже этого хотел, если бы узнал.
— Я попытаюсь.
— Нам больше некого просить. Рекс так занят.
— Да, я слышал немало рассказов о его деятельности на газовом заводе.
— О да, — сказала Джулия с отзвуком прежней сухости в голосе, — он создал себе капитал на забастовке.
Потом мы несколько минут говорили о Брэттском отряде. Она рассказала, что Брайдсхед отказался от какого-либо участия в общественном движении, так как не убежден в его справедливости; Корделия в Лондоне, она сейчас спит, потому что дежурила у матери всю ночь. Я рассказал, что занимаюсь архитектурной живописью и мне очень нравится. Весь этот разговор был пустой; мы уже все сказали друг другу в первые несколько минут; я остался к чаю, а после чая тут же уехал.
Компания „Эйр Франс“ простирала свои услуги до Касабланки; оттуда до Феса я добирался на автобусе, выехав на заре и к вечеру прибыв в новый город. Из гостиницы я позвонил британскому консулу и в тот вечер ужинал у него, в его гостеприимном доме под стенами старого города.
— Очень рад, что кто-то наконец приехал за молодым Флайтом, — сказал консул. — Он все-таки был у нас бельмом на глазу. Неподходящее здесь место для человека, существующего на иностранные переводы. Французы не в состоянии его понять. Всякого, кто не занимается коммерцией, они считают шпионом. Да и живет он совсем не как лорд. У нас здесь обстановка отнюдь не простая. Не далее как в тридцати милях отсюда идет война, хоть и не скажешь, здесь сидя. Только неделю назад у нас тут появились какие-то молодые идиоты на велосипедах, желающие вступить добровольцами в армию Абдул Керима. И мавры, надо сказать, публика сложная; они не признают вина, а ваш друг, как вам, наверно, известно, пьет почти круглые сутки. Зачем ему понадобилось сюда приезжать, не понимаю. Мало, что ли, места в Рабате или Танжере, где специализируются на туристах? И знаете, он снял дом в старом городе. Я сделал попытку его отговорить, но дом ему достался после одного француза из департамента искусств. Он ничего дурного не делает, я не говорю, но беспокойства от него много. При нем живет один ужасный человек — немец из Иностранного легиона. Темная во всех отношениях личность. Это добром не кончится. Поймите, Флайт мне симпатичен. Я не часто с ним вижусь. Раньше он приходил сюда принимать ванну, до того как поселился в том доме. И всегда был обаятелен. Моя жена от души привязалась к нему. Какое-то занятие, вот что ему нужно.
Я объяснил цель своего приезда.
— Вы, вероятно, застанете его сейчас дома. Видит бог, в старом городе не очень-то есть куда ходить по вечерам. Если угодно, я дам вам в провожатые швейцара.
И вот после ужина я в сопровождении консульского швейцара с фонарем отправился в путь. Я никогда прежде не был в Марокко. Днем из окна автобуса, катившего по ровному стратегическому шоссе мимо виноградников, военных постов, новых белых сеттльментов, необъятных полей, где уже колосились высокие хлеба, и рекламных щитов французских экспортных компаний — „Дюбоннэ“, „Мишлена“, „Магазен дю Лувр“, — эта страна показалась мне очень европеизированной и современной; теперь, под синими звездами, в обнесенном стенами старом городе, где улицы были не улицы, а отлогие запыленные лестницы и по обе стороны поднимались темные безглазые стены, смыкаясь и снова раздаваясь над головой навстречу звездному свету; где между стертыми булыжниками мостовых толстым слоем прилегла пыль и какие-то фигуры в белом безмолвно проходили мимо, неслышно ступая мягкими подошвами восточных туфель или твердыми босыми ступнями; где воздух пропах пряностями, воскурениями и дымом очагов, — теперь я понимал, что привлекло сюда Себастьяна и так долго его здесь держит.
Швейцар консульства надменно шагал впереди меня, раскачивая фонарем и звонко ударяя по камням своей длинной швейцарской булавой; кое-где в раскрытых дверях мелькали безмолвные группы, сидящие вокруг жаровен в золотистом свете ламп.
— Очень грязные народы, — презрительно бросал он мне через плечо. — Необразованные. Французы их такими оставили. Не то что британские народы. Мои народы, — сказал он, — всегда очень британские народы.
Ибо он был из суданской полиции и рассматривал этот древний центр своей культуры, как новозеландец мог бы рассматривать сегодняшний Рим.
Наконец мы остановились у последней из длинного ряда усеянных медными заклепками дверей, и швейцар постучал в нее своей булавой.
— Британского милорда дом, — пояснил он. За решетчатым оконцем появился свет и смуглое лицо. Консульский швейцар произнес что-то не допускающее возражений, засовы были отодвинуты, и мы вошли во внутренний дворик с бассейном посередине, под густым виноградным сводом.
— Я подожду тут, — сказал швейцар. — А вы идите за этим туземцем.
Я вошел, спустился на одну ступеньку и оказался в комнате, где были патефон, горящая керосинка и молодой человек между ними. Потом, когда я огляделся, там обнаружились и другие, более приятные предметы — коврики на полу, вышитые шелковые сюзане на стенах, резные раскрашенные потолочные балки, тяжелая, изрешеченная отверстиями лампа на цепях, бросавшая по комнате мягкие прихотливые тени. Но в первое мгновение только эти три объекта — патефон своим шумом (он играл французскую джазовую музыку), керосинка своей вонью и молодой человек своим волчьим видом — задержали мое внимание. Молодой человек, развалясь, сидел в плетеном кресле, выставив вперед и положив на какой-то ящик забинтованную ногу, он был одет в костюм из дешевого центрально-европейского твида и открытую теннисную рубашку; на здоровой ноге у него был коричневый парусиновый туфель. Рядом с его креслом стоял медный поднос на деревянных козелках, а на нем две пивные бутылки, грязная тарелка и блюдце, полное окурков; стакан пива он держал в руке, а на нижней губе у него приклеилась сигарета, не падавшая, даже когда он разговаривал. Его длинные светлые волосы были гладко, без пробора, зачесаны назад, а лицо бороздили складки, неестественно глубокие при его очевидной молодости; у него не хватало переднего зуба, из-за этого шипящие получались у него шепеляво, а иногда и с присвистом, отчего он сам всякий раз смущенно хмыкал; остальные зубы были желтые от табака и редкие.
Это явно была „темная во всех отношениях личность“ из описаний консула, „кинолакей“ Антони Бланша.
— Я разыскиваю Себастьяна Флайта. Это ведь его дом, если не ошибаюсь?
Я говорил во весь голос, чтобы перекричать музыку, но он ответил негромко, с определенной свободой во владении английским языком, которая свидетельствовала о том, что этот язык стал для него привычным.
— Да. Но его шейчаш нет. Никого нет, кроме меня.