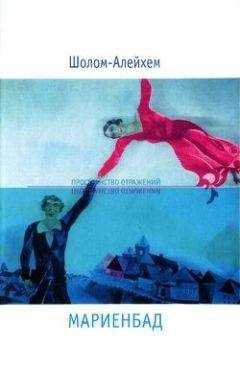Дневной свет пробивается сквозь доски и разбитые стекла. Я возвращаю ему бутылку и, вздохнув, поднимаюсь наверх, чтобы уладить свои отношения с Кларой. Хольцхаммер будет управлять Вельденштайном от имени австрийских властей, пока его не разорвет бомба анархистов в 1904 году. Клара заснула. Столкновение с ней не состоялось. Я испытываю от этого смутное разочарование. Я направляюсь в свою комнату, надеясь найти в ней хоть какие-то следы Алисы. Я все больше возмущаюсь поведением леди Кромах. Она разыграла меня самым вероломным образом. Однако по отношению к Алисе я не чувствую никакой ярости. На полу разбросаны оставленные вещи, наполовину уложенные чемоданы и сундуки. Я поднимаю ее штанишки из светло-голубого шелка. Они еще пахнут ее телом. Она не оставила для меня ни словечка. Но в шкафу я нахожу несколько обрывков сиреневой бумаги, на которых Алиса что-то нацарапала и набросала какие-то рисунки, похожие на те, что делает, скучая, школьница. Я складываю обрывки на китайском туалетном столике и расшифровываю неизвестно откуда взятое предложение: «Это чудесный день. Пойдем ловить рыбку, — сказал червяк, обращаясь к человеку». В другом месте я читаю: «Он не такой, каким я его себе представляла». Я задрожал. «Ты идиотка, — вскрикиваю я. — Все потому, что ты, ты не смогла бы стать такой, какой я вообразил тебя. Теперь ты сделала это невозможным. А какой женщиной ты могла бы стать!» Вот таково мое поражение. Я ощущаю то же, что ощущает художник, осознав, что не способен больше творить. У меня такое чувство, что от меня оторвали половину тела, украли половину души. Пушки разнесли в пыль мое прошлое, а мое будущее затерялось среди развалин. Я — жертва такой чудовищной измены. И совершило эту измену мое творение. Внезапный гнев охватывает меня, и я рву в клочья ее платья, белье, шляпки, топчу ее маленькие туфельки, подбрасываю в воздух шелк, кружева, перья со шляп и, наконец, бросаюсь на кучу этих обрывков. Я бы хотел уничтожить все, что напоминает о ней, все, что приносит мне такую боль. Я столько влил самого себя в этот бесценный сосуд. Когда я, содрогаясь от рыданий, лежу на полу, входит Клара. На ней домашнее платье, накинутое на ночную рубашку. Она собирает осколки стекла и фарфора, пытаясь навести в комнате хоть какой-то порядок. «Она взяла с собой все драгоценности», — замечает она. Я рычу, прося ее уйти. Она стоит передо мной, опустив глаза, и внимательно всматривается мне в лицо. Затем закрывает за собой дверь.
Когда я возвращаюсь в комнату Клары, она снова спит, натянув одеяло на голову. Я снимаю пиджак и жилет и сажусь в кресло у окна. Сон не идет ко мне. Каждый раз, когда я закрываю глаза, передо мной возникают горестные картины и меня охватывает сожаление о прошедших днях и утраченных радостях. Майренбурга больше нет. Пападакис ворчит и приносит чистый ночной горшок. «Вы снова намочили кровать, — говорит он. — Я знаю, я отсюда чувствую по запаху».
Он приподнимает меня и убирает мокрые простыни. «Утром я пошлю за доктором». Постель теперь свежая. Через открытое окно доносится запах моря и гиацинтов. Майренбург стал лишь тусклым воспоминанием. Алиса отняла у меня свою жизнь, надеясь, что ей будут предложены более соблазнительные перспективы. Она не захотела принять то, что предлагал ей я. Что же пообещала ей Диана? Вероятно, не что иное, как более привлекательный или более реальный план побега. Я срываюсь с кресла. Ноги у меня подкашиваются. Клара переворачивается, отбрасывает одеяло и примирительно протягивает мне руки. В лице у нее затаенная нежность. Как она может простить меня? Почему женщины так к нам относятся? Я начинаю плакать. «Мы уйдем сегодня вечером, — говорит она. — Мы все уладили с фрау Шметтерлинг. Мы уведем Эльвиру. С нами пойдет Вилке. Но вот как он надеется вырваться из города?» Всхлипывая, я говорю ей о подземной реке и канализационной сети. Она хлопает меня по плечу. «Неплохо. Это может получиться». Наконец я ложусь в кровать. Просыпаюсь я от взрыва. Где-то в доме раздаются крики, я слышу, как падают куски штукатурки. В комнате темно. Растянувшись на кровати, я жду, когда разорвется следующий снаряд. Но нет, дверь открывается, и я вижу Клару с керосиновой лампой в руке. За ней идет фрау Шметтерлинг. Она что-то держит на руках. Это одна из ее собачек, трепещущая, истекающая кровью. «Они убили Пуф-Пуфа», — говорит она просто.
Клара уже готова к уходу: на ней черно-серый костюм. Сверху она надевает такое пальто, которое обычно носят в сельской местности. Она показывает на сверток, лежащий у ее ног: «Здесь кое-какая одежда, принадлежавшая «месье». Она должна тебе подойти. Тебе придется отказаться от своей, мой дорогой».
Я уступчив и послушен. Собака хрипит. Фрау Шметтерлинг что-то шепчет Кларе и возвращается вниз. Надевая грубый нелепый наряд, я испытываю странное удовлетворение, словно я натягиваю грубошерстную монашескую одежду в знак траура по Майренбургу и по моим погибшим мечтам. «Мне так хотелось бы знать правду, — говорю я Кларе. — Она поддалась на несбыточные обещания».
«Вполне вероятно. — Клара помогает застегнуть мне пальто. — У тебя сохранился план?»
Я отдаю его ей. «Я полагаю, лучше попросить Вилке руководить всеми действиями, — говорит Клара. — По крайней мере, в ближайшее время. Как ты себя чувствуешь?»
«Мне хотелось бы знать правду», — повторяю я.
«Я уверена, что ты найдешь способ вырваться отсюда. Я доверяю твоему чутью».
Ночью все вчетвером мы выходим из дома. На Розенштрассе мы проходим мимо двух искалеченных, но еще живых солдат. Они умоляют помочь им. Провожающая нас фрау Шметтерлинг говорит: «Я займусь ими»— и делает нам знак идти дальше.
Мы с Вилке поднимаем крышку люка. Он первый соскальзывает в отверстие и освещает его лампой. Мы продвигаемся по мокрым камням колодца, спускаемся по металлической лестнице до старого русла реки. Эльвира мала ростом, и вода может укрыть ее с головой. Я сажаю ее себе на плечи. Необходимость заботиться об этом ребенке на протяжении нашего путешествия приносит мне некоторое утешение, и я с удивлением обнаруживаю, что сам произношу слова или делаю жесты, с которыми когда-то обращался к ней «месье». Мы продвигаемся вперед, минуя нечистоты и трупы, навстречу свободе. Наконец мы выходим на полянку на моравском берегу и присоединяемся к колоннам беженцев, уходящих со своих земель, лишенных своих естественных богатств. Мы идем без остановки уже более двух суток, пока не пересекаем границу Богемии. У нас есть немного золота, которое вручила нам фрау Шметтерлинг, благодаря ему мы можем сесть на поезд, который увезет нас в Прагу, где мы и расстаемся. Эльвира с Вилке уедет в Англию. По-прежнему опустошенный душевно, лишенный воли, я предоставляю Кларе принимать решение. Из Праги мы едем на поезде в Берлин, где пользуемся гостеприимством моего брата Вольфганга. Он восторгается обаянием и хорошим воспитанием моей «невесты-англичанки». Вскоре нас захватывает светская жизнь. Каждому хочется послушать рассказ о наших приключениях. Я достаточно пришел в себя, чтобы искусно притворяться и убедительно рассказывать о страданиях и разрушениях, свидетелем которых я был. Меня просят написать статья, которые затем объединяют в нелепую книжицу, озаглавленную «Стодневная осада: последние месяцы Майренбурга (из личных впечатлений)». Я не упоминаю в ней ничего, что действительно для меня важно, но, несмотря на это, на какое-то время становлюсь героем дня. Низость Хольцхаммера становится предметом обсуждения многочисленных изданий. Его "называют убийцей Майренбурга. Вероломство Австро-Венгрии потрясло весь цивилизованный мир. Но Хольцхаммер правит, Бадехофф-Красни в ссылке, а дипломаты постепенно возобновляют свою плодотворную деятельность, обещая Европе еще несколько мирных лет. Но Майренбурга больше нет. По интересующему меня вопросу ходят многочисленные слухи, но я по-прежнему не знаю, что сталось с Алисой. Я готов выслушивать любого сплетника, любые пересуды. Никогда не будет существовать ничего подобного борделю на Розенштрассе, потому что не будет больше другого Майренбурга, столь прелестного, дышащего историей. Благодаря психоанализу мы стали слишком хорошо понимать самих себя. Мы переживаем эпоху великого излечения, как будто можно излечить человеческую жадность. Это не так. Но не нужно так осуждать тех, кто проявляет жадность. Достаточно остерегаться их. Не жадность — зло. Зло заключается в манипулировании другими ради удовлетворения этой жадности. Вот это настоящее преступление. Ты слышишь меня, Пападакис? Он по-прежнему здесь, прячется в тени, шаркая ногами.
Прочтешь ли ты когда-нибудь это, Алиса? Или ты погибла вместе с другими в Майренбурге? Я так и не смог тебя отыскать. Мы надеялись получить хоть какие-нибудь известия о леди Кромах из Лондона и Дублина, но она туда не возвращалась. Кое-кто утверждал, что она сменила имя, чтобы избежать некоторых скандалов, и, возможно, обосновалась в Париже. Но в Париже мы ее тоже не обнаружили. Так же как не нашли и княгиню Полякову, о которой мы слышали, будто она отправилась в Индию. Поговаривали, что когда войска Хольцхаммера добрались до Розенштрассе 19 декабря 1897 года, Полякова была в машине своего бывшего любовника и сама отправила наемников в бордель. Воображаю, как болгары набросились на девиц. («Позднее нашли лишь кучу окровавленных кружев».) Бэби плачет, как имела обыкновение говорить о ней леди Кромах. Бэби сердится. Раканаспиа был убит, вероятно, австрийцами. Графу Белозерскому, несмотря на ранение, удалось вернуться в Киев, где он живет по-прежнему и посвящает свои литературные произведения описанию фабрик. Бэби плачет. Мы пропали. Брошенные, покинутые. Все, что могло нас поддержать, старится и умирает. Что бы мы только сейчас не дали, чтобы возвратить то чувство уверенности и внимание окружающих к себе, которые были в детстве. Клара привыкла к особенностям речи леди Кромах. Но она не могла выносить прозвище «Бэби». «Рано или поздно, — говорила она мне, — плач младенца становится невыносим для слуха взрослых».