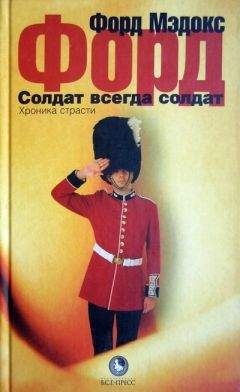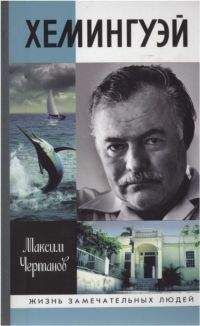Вот такие соображения посещали Нэнси за чтением статьи.
Однако, читая дальше, она обнаружила, что мистера Брэнда обвиняли в «преступной близости» с кем-то. Нэнси решила, что его обвиняют в разглашении секретов его жены, и недоумевала, почему это считается поводом для обвинения. Что и говорить, поступок недостойный — миссис Брэнд сразу несколько упала в глазах Нэнси. Но, прочтя ниже о том, что миссис Брэнд сняла свои обвинения, Нэнси решила, что секреты, в разглашении которых повинен мистер Брэнд, были, видимо, не такие уж важные. И тут внезапно ее пронзила догадка: мистер Брэнд, этот душка мистер Брэнд, у которого она была в гостях за месяц-другой до отъезда в Наухайм, — он еще играл тогда в жмурки со своими детьми и женой, и всякий раз, поймав жену, целовал ее, — так вот, эти милые мистер и миссис Брэнд терпеть друг друга не могут. Невероятно!
И тем не менее так и есть: об этом написано черным по белому в газете. Мистер Брэнд пил; однажды, перебрав, он ударил миссис Брэнд с такой силой, что та упала. Дойдя до конца газетных колонок, Нэнси прочитала в последнем абзаце несколько скупых слов: мистер Брэнд виновен в жестоком обращении с женой и в прелюбодеянии с мисс Лаптон. Последнее обвинение ни о чем не говорило Нэнси — ни о чем, так сказать, конкретном. Она знала, что заповедь гласит «не прелюбодействуй», но зачем вообще люди прелюбодействуют? Это, наверно, что-то запретное, вроде ловли форели в запрещенное время. Ей мерещилось что-то связанное с поцелуями, объятиями…
Чтение оставило у Нэнси ощущение тайны, — оно напугало и ужаснуло ее. Она чувствовала тошноту — и чем дальше она читала, тем более тошно ей становилось. Заныло сердце, она заплакала. Она не переставала спрашивать у Бога, как он допускает такое. Теперь она знала точно, что Эдвард Леонору не любит, а Леонора ненавидит мужа. В таком случае Эдвард, возможно, любит другую. Непостижимо!
Но что, если эта другая, — настойчиво подсказывало ей вдруг ставшее чужим и незнакомым сердце, — она сама? Но ведь он ее не любит… Это случилось примерно за месяц до того, как она получила письмо от матери. Тогда ей захотелось поскорее забыть об этой истории — уж очень все это было неприятно. И действительно, через день-другой чувство тошноты как рукой сняло. А узнав, что Леонора оправилась от мигрени, она неожиданно для себя самой сказала ей, что миссис Брэнд развелась с мужем. И попросила объяснить — конкретно — что все это значит.
Леонора лежала на кушетке в зале — после приступа мигрени она была так слаба, что едва могла говорить. Она пролепетала:
«Это значит, что мистер Брэнд может снова жениться».
Нэнси смешалась: «Но как же…» А затем спросила полуутвердительно: «На мисс Лаптон?» Леонора только слабо махнула рукой в знак согласия. Она лежала, закрыв глаза.
«Но в таком случае…» — снова начала Нэнси. В ее фиалковых глазах появилось выражение ужаса: брови сошлись на переносице, образовав морщинку; вокруг губ залегли напряженные складки. Она смотрела на старый милый знакомый зал, и он уже не казался ей таким, как прежде. Каминные решетки с латунными цветами по углам словно утратили плотность. Поленья в камине горели ровно, как и положено дровам, и уже вовсе не казались уютными, ласкающими глаз деталями интерьера, подтверждающими устойчивость уклада. Сенбернар, лежавший у камина, завозился во сне, и над грудой поленьев задрожали языки пламени. За окном не переставая лил осенний дождь. Словно встряхнувшись ото сна, Нэнси снова подумала, что Эдвард может жениться на другой, и у нее вырвался сдавленный стон.
Леонора, лежавшая ничком, уткнувшись в расшитую черным бархатом и золотом подушку, на кушетке, придвинутой к камину, приоткрыла глаза.
«Я подумала… — сказала Нэнси, — я и не представляла… Ведь брак священен. Брак нерушим. Разве нет? Я всегда думала, что если ты замужем… и… — Она всхлипнула. — Я думала: быть замужем или разойтись, это как жить или умереть».
«Так считает Церковь, — ответила Леонора. — В миру всё иначе…»
«Ах, да, — спохватилась Нэнси, — Брэнды ведь протестанты».
И так легко у нее стало на душе от этой мысли, что на какой-нибудь час она перестала волноваться. Как она могла забыть о Генрихе Восьмом и о том, что легло в основу протестантства? Глупая! Она чуть не расхохоталась над самой собой.
Смеркалось. Поленья в камине уютно потрескивали — служанка следила, чтобы огонь не погас; тем временем сенбернар проснулся, вытянулся, зевнул и направился на кухню. И тут только Леонора открыла глаза и спросила Нэнси холодно:
«А ты? Ты думаешь о замужестве?»
Она никогда ни о чем подобном не спрашивала, и Нэнси на какое-то мгновение растерялась и испугалась. Потом решила, что вопрос вполне резонный.
«Не знаю, — ответила она. — Мне никто не предлагает».
«Ну отчего же? Несколько мужчин готовы сделать тебе предложение», — возразила Леонора.
«Но мне совсем не хочется замуж, — объяснила Нэнси. — Мне хорошо здесь с вами и Эдвардом. Не знаю, может быть, для вас это обременительно. Хотя, если я уеду, вам потребуется компаньонка. А может, мне и стоит начать зарабатывать…»
«Я не об этом, — продолжала Леонора тем же бесцветным голосом. — Ваш отец достаточно состоятелен, чтобы вас обеспечить. Но, детка, люди, как правило, женятся».
Вот тогда, по-моему, она и спросила девочку, не пойдет ли она за меня замуж. Нэнси ответила, что если ей скажут, то пойдет, но все равно она хотела бы остаться жить в Брэншоу. И добавила: «Будь моя воля, я бы вышла за такого, как Эдвард…»
Боже, как она перепугалась! Леонора со стонами корчилась на кушетке…
Нэнси бросилась за служанкой, стала искать болеутоляющее, готовить компрессы. Она была уверена, что у Леоноры снова обострилась мигрень.
Всё это случилось, если помните, за месяц до той ночи, когда Леонора появилась в комнате Нэнси. Выходит, я опять отвлекся, но иначе не получается. Не получается всех одновременно держать в поле зрения. Расскажешь о Леоноре, чуточку подтянешь ее, — глянь, начинает отставать Эдвард. Берешься за него. А там, смотришь, Нэнси куда-то подевалась. Жаль, что я не стал писать дневник. Давайте проверим по датам. Из Наухайма они вернулись 1 сентября. Леонора сразу слегла. Прошел месяц, и к началу октября они уже вовсю разъезжали с визитами. Нэнси успела заметить странности в поведении Эдварда. Примерно 6 октября Эдвард сделал подарок молодому Селмзу, и у Нэнси появился повод усомниться в любви тетушки к дяде. Двадцатого она прочла газетный репортаж о бракоразводном процессе, напечатанный в трех номерах, начиная с 18 октября. Двадцать третьего в зале они беседовали о браке и перспективах замужества Нэнси. А ночной визит тетушки в спальную Нэнси случился самое раннее 12 ноября…
Таким образом, три недели Нэнси бродила по дому и думала, думала… Представьте: хмурое небо, ненастье, старинный дом, сам по себе мрачный оттого, что находится в ложбине, затененной густыми елями. Нездоровая обстановка для девочки! Она впервые задумалась о любви, хотя прежде иначе как со смехом и иронией об этой материи не говорила. Ей вдруг вспомнились отдельные эпизоды из давно прочитанных книг — то, что когда-то ее совсем не трогало, теперь представилось важным и значительным. Она вспомнила о том, что кто-то из героев романов был влюблен в принцессу Бадрульбадур;[73] что любовь сравнивают с пламенем, жаждой, истощением жизненно важных органов — впрочем, что означает последнее, она не знала. Смутно вспоминались чьи-то слова о том, что от безответной любви у влюбленных делается безнадежным взгляд, кто-то начинает пить, кто-то тяжело вздыхает. В углу зала стояло небольшое фортепьяно — как-то, оставшись одна, она подошла к инструменту и стала наигрывать мелодию. Звук был дребезжащий, надтреснутый, — ни у кого из домочадцев не было музыкальных способностей, и инструмент стоял заброшенный. Нэнси и знала-то всего пару простых песенок, но вдруг захотелось их вспомнить. Возможно, от нечего делать: до этой минуты она долго сидела на подоконнике, глядя на угасающий день. Леонора уехала с визитом, Эдвард отправился смотреть посадки в ближнем леску. Вот она и тронула клавиши старинного инструмента. Это получилось само собой. Она вслушивалась в зыбкие звуки расстроенного фортепьяно: в незатейливой мелодии мажорные ноты, повторявшиеся с веселой настойчивостью, плавно перетекали в минор — так яркие ночные огни отражаются в темной воде канала под мостом, дрожат, переливаются и исчезают где-то в глубине. Да, старинный безыскусный мотив…
К нему есть стихи скажется, об иве:
Для всех потерянных ты самый,
Ты самый верный друг, —
звучит как-то так. По-моему, это Геррик,[74] и к его стихам очень подходит неровный синкопированный плавающий ритм… Вечерело. В глубине зала стояли, как надгробья, грузные, темные, точно подернутые патиной времени колонны, подпиравшие галерею. Огонь в камине давно погас — лишь угольки краснели среди белого пепла… Тоскливое место, унылое освещение, печальное время суток…