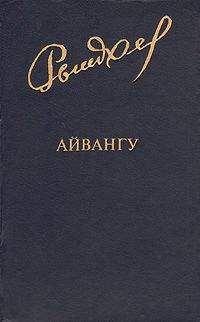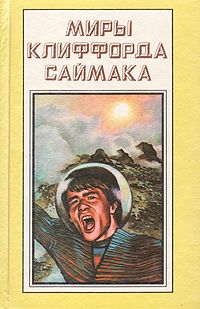Постепенно Айвангу снова втянулся в жизнь родного селения. Он охотился на вельботе и даже загарпунил моржа; ловил рыбу в Пильгыне и часто в разговорах вспоминал о городе Владивостоке, в котором растут огромные живые деревья. Слушатели поразились, узнав, что бедно одетая старуха проделала над Айвангу шаманские движения.
Кавье тоже слушал Айвангу, загадочно усмехался и, наконец, объявил, что пора коммунистам поговорить о колхозных делах, песцовом промысле.
Собрание шло, как обычно, по порядку, поговорили обо всем, как вдруг Кавье потребовал внимания и, глянув на запертую дверь, тихо произнес:
– Обсуждается поведение Айвангу.
Все заинтересовались, насторожились и притихли.
– Вы знаете, товарищи, как советская власть помогает народам Севера, – продолжал Кавье. – Наш земляк, товарищ инвалид Айвангу, долгое время ходил на коленях. Советская власть помогла ему выпрямиться во весь рост. Целый год лечился он во Владивостоке. Вернулся и теперь утверждает, что там полно бедно одетых людей, люди прямо на улицах крестятся, значит, веруют в бога. Нас призывают к бдительности – граница рядом. Вот почему у меня есть предложение обсудить поведение товарища Айвангу.
– На каком основании он носит военную форму? – подал голос Громук.
Председательствующий, новый начальник полярной станции, попросил слова.
Он говорил о происках империалистов, о близости границы с Америкой и о том, что сказал Черчилль в Фултоне.
– Мы должны быть начеку, – закончил он свою речь. Выступление Кавье обожгло Айвангу, как кипяток, и сразу припомнилось все: и как Кавье отобрал у него Раулену, как он прятал за портрет Ленина шаманские амулеты, как вместе с другими ел ворованное американское продовольствие… Айвангу стоило больших усилий взять себя в руки.
– Я скажу, – с трудом произнес он. – Кавье немного ошибся. Я не говорил о том, что во Владивостоке много нищих. Я сказал, что меня приняли за нищего – только и всего. Также он слегка преувеличил число верующих: я видел только одну старушку… Пусть Кавье лучше скажет, какие амулеты он хранит дома за портретом Ленина…
Что тут поднялось! Кавье вскочил и начал орать на Айвангу, обвиняя его во лжи. Пусть придут и проверят – у него нет ни одной шаманской вещи! А бубен у него сохранился, потому что партия поощряет развитие национального искусства. Громук тоже бесновался: Айвангу оскорбил память вождя, изобразив его чукчей. Айвангу оклеветал Кавье, обвинив его в воровстве американских продуктов.
Среди русских коммунистов поднялся спор. Чукчи сидели молча. Только Кавье тяжело дышал и изредка повторял:
– Клевета!
– У меня есть предложение, – сказал председательствующий. – Объявить товарищу Айвангу строгий выговор за потерю партийной бдительности и оскорбление секретаря парторганизации нашего уважаемого товарища Кавье.
Все проголосовали «за». Даже Сэйвытэгин.
Сгорбленный, недоумевающий, вышел Айвангу с собрания. Он решил ехать в райком искать справедливости.
В Кытрыне стучали топоры и пахло свежим деревом. В памяти Айвангу возникла знакомая песня, которую много лет назад пел в Тэпкэне русский плотник:
Ах ты, душенька, красна девица,
Мы пойдем с тобой, разгуляемся!
Плотник тот был рыжий, большой и красивый. Волосы у него напоминали древесные стружки.
И здесь работали топорами молодые солдаты. Они возводили новое здание райисполкома, а вдали, там, где затерялись мелкие куличьи озера, тарахтели бульдозеры, сбривая ножами кочки и бугры: строился новый аэродром. В палатках жили чукчи и эскимосы, завербованные на стройку. Каждое утро их будили автомобильные гудки.
Айвангу решил пообедать в поселковой столовой. Он сел за стол, покрытый клеенкой, и поманил к себе подавальщицу, в которой узнал Гальгану.
– Ты здесь работаешь?
Гальгана молча кивнула, взяла талоны и так же молча подала еду.
– Отчего ты такая сердитая?
Вместо ответа Гальгана рукавом вытерла слезы.
– Что с тобой? – спросил Айвангу. – Кто-то обидел тебя?
– Ничего, ничего, – Гальгана проглотила слезы.
– Я приду к тебе после работы, – шепнул Айвангу. В коридоре райисполкома Айвангу встретил Пряжкина.
– Эх, Айвангу, Айвангу! – выслушав его рассказ, покачал головой Пряжкин. – Когда ты станешь взрослым человеком? И все твоя несдержанность. Смотри, сколько ты успел натворить. Из вождя чукчу сделал, – Пряжкин загнул один палец. – Черт знает, что наговорил на Громука и Кавье, будто они воры, – загнул второй палец. – А теперь еще это. – Пряжкин поцокал языком и в утешение добавил: – Пойдем в райком. Кстати, там работает твой знакомый.
В кабинете первого секретаря райкома за столом сидел Белов. Он поднял голову и несколько минут оторопело смотрел на вошедшего.
– Айвангу?
Он поспешно вышел из-за стола и обнял друга.
– Какой ты теперь! Настоящий мужчина! А ну, пройдись еще раз… Хорошо, молодец! Танцевать можешь?
– Выговор схлопотал твой друг, – поспешил сообщить Пряжкин.
– Ладно, на бюро разберемся, – Белов махнул рукой и бережно усадил Айвангу рядом.
– Рассказывай, как жил…
Беседа друзей длилась до вечера. Кто-то входил и уходил, Белов подписывал бумаги, что-то читал и, вырвав свободную минуту, возвращался на диван к Айвангу.
В этот день Айвангу так и не собрался к Гальгане, улучил свободную минуту только следующим вечером.
В старой квартире сказали, что Гальгана здесь давно не живет. После долгих расспросов Айвангу указали на домик, прилепившийся одним боком к холму. Когда-то в этом домике держали племенных собак. И хотя это был настоящий дом, производил он жалкое впечатление: окна наполовину забиты фанерой, форточка заткнута каким-то лоскутом, похожим на рукав старого ватника. Айвангу постучался в дверь. Кто-то на секунду высунулся и бросил:
– Стучитесь в другую.
Айвангу решил не стучать, толкнул дверь и вошел в тесный тамбур. За тонкой стенкой послышались голоса – мужской и женский. Айвангу распахнул дверь.
На широкой смятой кровати лежали двое: огромный одноглазый мужчина и рядом с ним Гальгана. Лицо у нее опухло, волосы спутались, под глазами чернота, как лунная тень от айсбергов. Она испуганно взглянула на Айвангу и слегка вскрикнула.
– Ты кто такой? – грубо окликнул вошедшего мужчина.
– Где твои дети? – спросил Айвангу Гальгану.
– В садике они, мои деточки, – пьяным голосом ответила Гальгана и заплакала.
– Перестань реветь! – крикнул мужчина. – А ты убирайся отсюда! Чего ходишь? Экимыл уйна!
– Не гони его! – закричала Гальгана. – Это друг моего мужа!
Одноглазый соскочил с кровати и схватил свою одежду.
– В таком случае я ухожу, – и бросился в дверь.
Гальгана была пьяна. Размазав по лицу слезы, она закричала на Айвангу:
– Ты зачем пришел сюда? Я не твоя жена! Бедный мой Алим. Он умер черный, как будто сделанный из моржовой кожи… А мне потом Пряжкин говорит: освобождай квартиру. Где жить, куда пойти? Еле взяли на работу в столовую… И комнатку эту дали. Ох, горько мне, Айвангу! Кому я теперь нужна такая?
– Не надо так говорить, – ласково сказал Айвангу. – Поспи немного, а потом поговорим.
Гальгана всхлипнула и закрыла глаза.
Айвангу сходил в магазин, купил там пачку сахара, хлеб и масло. Подумав, он взял еще и плитку прессованного чаю.
Оттуда он хотел было зайти в райком посоветоваться, как помочь Гальгане, но не решился: час уже поздний, и все, наверно, разошлись. Можно бы пойти к Белову домой, но еще неизвестно, как он отнесется к тому, что его беспокоят в нерабочее время. Вон Громук. Если охотники пришли поздно, сколько ни уговаривай, ни за что не разрешит открыть магазин. У него один ответ: «Мое время кончилось».
Жаль Гальгану. Если ее оставить здесь, она пропадет, и неизвестно еще, что будет с ее детьми. Такая молодая и такая несчастная!
У Алима же все родственники еще в двадцатых годах переселились на остров Врангеля. Куда такую на остров? Там охотятся, живут в ярангах, а Гальгана отвыкла от чукотской жизни.
С такими мыслями Айвангу подошел к дверям и услышал детские голоса. Это его обрадовало: значит, Гальгана взяла детей из сада. Он постучался и вошел. За столом двое чумазых детей ели кашу прямо из кастрюли. Третьего Гальгана кормила грудью.
Увидя Айвангу, Гальгана смущенно запахнула платье.
Живи она в яранге, ей и в голову не пришло бы стыдиться мужчины.
Айвангу оглядел комнату. Из всех углов выглядывала бедность и запустение. Видимо, здесь неделями не подметали и не убирали.
– Надо бы убрать немного, – сказал он с легким укором.
– Все некогда, – виновато оправдывалась Гальгана. – С утра бегу на работу. До работы надо ребятишек в сад, в ясли отправить. Вернешься, крутишься, крутишься… Покормить надо, заштопать одежду. Новую купить не на что, а старая все рвется и рвется. Трудно мне здесь. Уехала бы в селение, да некуда, – родители померли, ярангу снесли… в позапрошлом году ездила туда в отпуск, когда Алим был жив. Нету ничего.