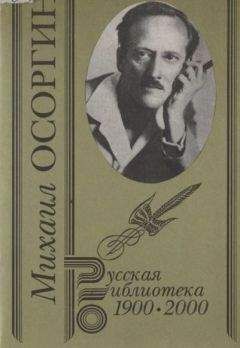Таким умницей и в то же время жизнерадостным, любознательным, увлекающимся и влюбленным в Москву, в друзей и в жену Катиньку, в сына Никитиньку, в книжную лавку, в поэзию и вообще в жизнь, а на досуге и немножко болтуном и душой общества рисуется Михаил Никитич в своем путевом дневнике, написанном в форме писем к жене, листочки которого собраны ее или его рукой, переплетены в красный сафьян с золотым тиснением на корешке и озаглавлены «Московский журнал».
Я приведу несколько выдержек из этой рукописи, посвященной блужданиям по ушедшей в историю Москве. Она никогда не была напечатана и историкам неизвестна. Мне не удалось узнать, как она попала в Париж и в чьем архиве сохранялась раньше. Старому книголюбу простят сентиментальное предисловие к этому сентиментальному путешествию.
Поскольку почерк выдает человека, Михаил Никитич не отличался постоянным характером. Каждая новая главка его «Московского журнала» начинается старательно выведенными строчками, в которых он любуется всякой буквой. Но так выдерживается только первая страница: дальше буквы наклоняются и начинают бежать по бумаге с тою же поспешностью и суетой, с какой сам он рыскает по Москве, навещая родных и знакомых. В его четырнадцати письмах названо свыше ста имен; всех нужно навестить, всем передать поклоны и письма. И редкий день можно не побывать в Петровском дворце, где до дня коронации остановился государь с сыновьями, и у батюшки, старого сенатора Никиты Артамоновича, который живет у Михаила Михайловича Рахманова[152].
Приехав в «городовых санях», он спешит обменять их на карету. «Таковы сильны старинные привычки. Нанял я карету с четвернею, потому что грязное состояние улиц московских обижало самолюбие мое. Нанял немножко дорого: но Катинька позволила мне мотать». В первый же день, не зная дорожной усталости, успел устроиться на квартире в доме Протасьевых, на Мясницкой, побывал у Рахмановых и у батюшки, заехал к княгине Урусовой, слетал и на Старую Конюшенную к Ивану Предтече, где проживала княгиня Голицына, имел неожиданную приятную встречу со своим учителем танцевания Бубликовым и закончил день визитом к тетушке Федосье Алексеевне на Остоженке. И не столько желание видеть людей, сколько жажда любоваться Москвой: «Моя резвость не в состоянии была просидеть в одном доме целый вечер. Жадность зевать на кривые улицы, на бесчисленные здания и хижины Москвы имела в том также участие».
Следующий день — официальные визиты, но утро непременно посвящается писанию «Московского журнала», листки которого отправляются с первой почтой Катиньке. Утренний завтрак готовит Еремей из припасов, привезенных с собою. «Завтракал по обыкновению на своем дорожном приборе. Прекрасный ларчик Катинькин стоит всегда передо мною на разогнутом ломберном столе. Он составляет все мое хозяйство». Одевшись парадно, заехал к обоим градодержателям, князю Долгорукову и Архарову[153], но ни того, ни другого дома не застал; придется побывать завтра. Пока же побывал на Арбате у Миколы Явленного, где живет Алексей Минич. И как не навестить Михайлы Матвеевича Хераскова, старого знакомого и преотменного российского поэта? Михайла Матвеевич купил себе новый дом на Вшивой горке: «Прозвище, недостойное для жилища великого стихотворца!» И уж кстати было слетать за Москву-реку под Донской монастырь к Петру Алексеевичу Ижорину и к Семену Саввичу, жена которого Аграфена Петровна приносит Катиньке свое почтение.
«15 число, воскресенье. У меня был Алексей Минич, которому я рассказал, где живет Елисавет Карловна. К ней поскакал он от меня. А я по тщетном визите у Куракина был на Почтовом Дворе, где мне сказали, что почта пришла, но письма не разобраны. Оттуда поехал к Ехалову мосту отыскивать Елисавет Карловну. Был у Чонжина, их соседа, и потом двор обо двор у Фритингофши и у Елисавет Карловны. Они унимали меня чрезвычайно обедать, но я положил быть в Петровском Дворце. Была повестка в два часа сбираться для встречи Государя. От них возвратился я на Почтовый Двор, где имел несравненное щастье получить радостное письмо моей милой и обожаемой Катиньки. Ездил домой читать его и плакать от радости. Потом был у Льва Васильевича Толстова и, наконец, в Петровском».
Заезды на Почтовый двор — целое событие. Письма получаются по воскресеньям и средам, и нетерпеливому получателю приходится ждать, пока происходит разборка. Сдавать письма можно только до восьми часов вечера — позже не принимают. На почте Михаила Никитича сразу признали и отметили: человек известный, приятного характера, получает и отправляет с каждой почтой, не гневается, если приходится долго ждать. Иной раз при разборке писем удается Михаилу Никитичу усмотреть в куче свое, надписанное знакомым почерком Катиньки, — большая удача! За любезную выдачу не в очередь Михаил Никитич отвечает почте любезностью: он готов прихватить и развезти некоторые письма знакомым. Ему доверяют неограниченно, — а впрочем, у него должно быть немало знакомых в почтовом ведомстве, где чуть не все старшие чиновники-масоны. Писанье писем — страсть Михаила Никитича. «Искусство писания выдумано было отсутственным любовником. Я чувствовал приятности его сие утро. Я разговаривал за семь сот верст с моим милым другом. Может быть, теперь разговаривает она со мною».
Дни бегут, и непрестанная скачка по улицам Москвы немножко утомляет. «С приезду вставал я очень рано, а теперь час от часу позже. Купленный у волшебника (у книгопродавца) план города Москвы занимал меня. Прежние приезды, помнится мне, я устали не знал колесить по улицам и переулкам Москвы. Теперь что-то я равнодушен к етому удовольствию и желаю очень мая месяца, чтобы свидеться и не расставаться с моею голубушкою». Но это только лирика, а на деле в «Московском журнале» продолжают мелькать имена и названия улиц. Нужно повидаться со всеми и испытать приятность новых знакомств. Как не заехать в университет, с которым соединено столько воспоминаний? Удачно попал на конец философской лекции профессора Шадена, с которым после лекции не мог наговориться. Тут же побывал и у недавнего знакомого профессора Гейма.[154] В дружеском доме наиприятнейшая встреча: Николай Михайлович Карамзин, писатель известнейший; за этой первой встречей — обмен визитами и долгое приятельство, весьма для Карамзина полезное. Как не побывать у старого «учителя закона», знаменитого в духовенстве московском Архангельского собора протопопа Петра Алексеевича? Как не полюбоваться лишний раз московскими церквами и церковками и не посетить церемонию «варения мира» (здесь должна стоять ижица!)? С Пресненских прудов на Берсеневку, с Якиманской в Сыромятники, с Пречистенки на Яузу. По пути неизбежно на Почтовый двор.
И еще увлечение: книжные лавки. Их немного, и самая знакомая — на Ильинской, старого Редигера. «Худая привычка!» И хотя Катинька позволила мотать, но очень уж разорительны эти визиты к волшебникам-книгопродавцам! Учтивство и тщеславие заставляет всегда что-нибудь купить! «Сия неисцелимая привязанность к книжным лавкам не подает выгодного мнения о благоразумии моем. Но я радуюсь, что Судия мой наперед подкуплен и простит мне мои ребячества». В первый визит подхватил роман Фелдингов «Том Жонес», во второй визит не удержался, потратился на «Жизнь Карла Великого». Зато сколько удовольствия — даже не хочется скакать по Москве. «Любезный мой Том Жонес не пустил меня из дому весь вечер. Чтение его столь привлекательно, что я с трудом могу с ним расстаться». А на Петровке оказался новый книжный магазин. Кстати — чтение «Тома Жонеса» кончилось — необходимо надобно иметь аглинский роман. «Жребий пал на „Сесилию“. Но глаза мои было расступились, увидел великолепное издание аглинских стихотворцев. Благоразумие стояло возле и щуняло сорокалетнего мальчика. Ему надобно было поспешить домой, чтобы дописать письма свои». Да разве удержишься!
22 апреля. Середа. Надобно признаться, что чтение «Сесилии» служит мне иногда вместо упражнений, и всегда новая глава заманивает дальше, между тем как время, не останавливаяся, продолжает свое путешествие. Кроме того, напало на меня дурачество не сочинять стихи, а переписывать их с памяти, потому что я оставил портфель свой в Петербурге, а взял с собою Музу. Итак, Муза неотменно требует, чтоб я старое вранье клал на новую бумагу.
А когда в университетской лавке увидал случайно на полке книжку собственных стихов, изданную двадцать три года назад, — «можно ли было удержаться и не сделать приятное себе и книгопродавцу?»
Торжества коронации идут своим порядком — о них Михаил Никитич после лично расскажет Катиньке, а пока лишь вскользь отмечает их в «Московском журнале». Он и правда несколько утомлен московским сидением, — но уехать нельзя. По плохим от распутицы дорогам почта приходит неаккуратно. «Мало охоты знакомиться и рыскать: очень много возвратиться домой, на свою родимую сторонушку, где столько привязанностей, столько истинного щастья. Однако время идет, и мой извощик напоминает мне, что месяц прошел. Надобно развертывать пакетец Катинькин и платить наличными деньгами мои бесполезные странствия. Надобно еще за собой оставить коня и колесницу, покуда приятное позволение окончит здешнее мое пребывание». Меньше по гостям, чаще в книжных лавках, где удается иногда, не покупая, прочитать немецкую или английскую небольшую книжечку, или в университетскую типографскую контору, единственное место, где можно почитать газеты. Заново прочитаны «Том Жонес» и «Сесилия». Был у Спаса на Бору. Посетил Ризничью патриархов. Осмотрел собрание греческих и русских манускриптов. Есть и обязательные посещения: «В понедельник бал, во вторник опера, в середу в клобе, в четверг опять опера, в пятницу гулянье в саду и будто в субботу прощальный куртаг, а в воскресенье отъезд. Бог знает, правда ли». В опере давали «Молинару», а пятничное гулянье пришлось на 1 мая. «Чтобы описать ясность погоды, красоту местоположения, свежесть зелени, надобно быть живописцем. Вот для чего я не предпринимаю етого трудного дела. Людей видимо и невидимо. Великий порядок в етом следствии карет одна за другой, которые въезжают в остров и проезжают далеко в прелестную рощу, оборачиваются и в близком расстоянии возвращаются другой дорогой, так что из карет видят друг друга. Я только однажды проехал и не ослепил моим екипажем московских жителей».