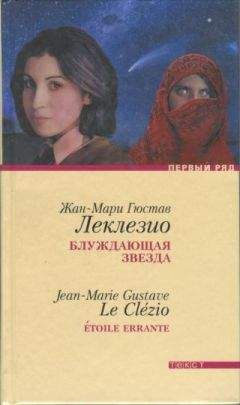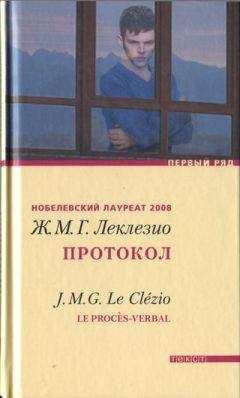Мне помогала Лола, она стала мне как сестра. Лола тоже ждала ребенка, но ее малыш должен был родиться только к Рождеству. Мы поддерживали друг друга, много говорили, она посмеивалась над моей утиной походкой. Она тоже была одна. Ее парень уехал, не оставив адреса. Так мы и жили почти все время вместе. Она учила меня йоге. Говорила, что это полезно в нашем положении. Глубоко вдохнуть, выдохнуть животом, скрестить ноги в полулотос, закрыть глаза и медитировать. Она была забавная, Лола, высоченная, подвижная, с детским личиком, голубоглазая, кудрявая и белокожая, как голландская куколка. Ее фамилия ван Валсум, и я так и не поняла, почему родители назвали ее мексиканским именем.
Об именах мы тоже говорили. Она хотела девочку, перечисляла имена, каждый день в разном порядке, Леонора, Сильвия, Биргит, Ромена, Альбертина, Кристина, Карлотта, Соня, Мариза, Марик — или Марит, — Зоэ, и всегда добавляла Элен, из-за меня. Зоэ казалось мне подходящим именем для девочки, особенно если она будет похожа на свою мать. «А твой сын?» Я знала, что у меня будет сын, мое солнышко. Но делала вид, будто об имени не думала. Боялась искушать судьбу. Язык не поворачивался сказать, что он будет солнышком. Я говорила, если родится мальчик, его будут звать, как моего отца. Мишелем. «А если будет девочка?» — «Тогда имя ей выберешь ты». Лола никогда не спрашивала об отце моего ребенка. Наверно, она думала, что у меня та же история, что у нее, парень бросил. Мы были так похожи, жизнь вышвырнула нас в Монреаль, точно море щепки, мы знали, что однажды нас снова подхватит волна, разнесет в разные стороны и больше мы не увидимся.
Он будет дитя солнца. Он был во мне всегда, из моей плоти и моей крови, моей земли и моего неба. Морские волны вынесут его на песчаный берег, куда когда-то причалили мы, где мы родились. Его кости будут белыми камнями горы Кармил и альпийской вершины Жела, его плоть — красной землей Галилейских холмов, его кровь будет ключевой водой, чистой водой горной речки в Сен-Мартене, мутной водой Стуры и водой наблусского колодца, из которого самаритянка дала напиться Иисусу. Тело его возьмет силу и ловкость от пастухов, а в его глазах будет сиять свет Иерусалима.
Когда я бродила по холмам в Рамат-Йоханане, по пыльной земле под деревьями авокадо, я уже чувствовала это в себе, эту жизнь, эту силу. Частичка солнца во мне была так горяча и тяжела. Другие — как они могли понять? У всех была семья, место рождения, кладбище, где они могли прочесть имена своих предков, память. А у меня — только этот комочек внутри, который должен появиться на свет. От этого темнело в глазах и тошнота подступала к горлу, огромная пустота зияла во мне, но за ней открывался другой мир, мечта. Я вспоминала, как ребе Йоэль в ту-лонской тюрьме рассказывал на своем таинственном языке о сотворении женщины. От его слов пробирал озноб, и я стискивала руку Жака, чтобы он быстрее переводил. Теперь я чувствовала в себе эту мощь, она вошла в мое тело, как будто сбылись наяву те слова. Фразы накатывали волнами, летели, как след от ветра на воде.
Я плохо понимала, где я. Родильное отделение в больнице, стены, выкрашенные ярко-желтой краской, каталки, на которых лежали женщины, и эта кошмарная коричневая дверь, которая хлопала, когда акушерка увозила очередную роженицу, шесть потрескивающих неоновых трубок на потолке, высокие зарешеченные окна, ночь, серо-розовое небо, словно отсвет снега в тишине степи, нарушаемой только стонами женщин да торопливым стуком шагов в коридоре.
Мне снилось, что мое солнышко появится на свет на том песчаном берегу, куда впервые ступили мы с Элизабет, — как давно это было. Во сне я была там, лежала на песке в ночи, и моя мать Элизабет была рядом, и помогала мне, и гладила мои волосы, я слышала тихий плеск волн, лижущих берег, крики чаек и пеликанов, провожавших рыболовные суда на рассвете. Стоило мне закрыть глаза — и я была там. Я чувствовала запах моря, вкус соли на губах. Сквозь ресницы видела ясный свет раннего утра, свет, который брезжит сначала над морем и тихонько наплывает на берег.
И Жак был со мной, я чувствовала его руку в своей руке, видела его ясное лицо, золотистый свет его волос и бороды, вот почему мой сын — дитя солнца, его волосы будут такого же цвета. Я слышала его голос, переводивший для меня слова из книги Берешит: «И навел Он, Всевышний, крепкий сон на человека; и, когда он уснул, взял одно из ребер его, и закрыл плотию то место. И перестроил Он ребро, которое взял у человека, в женщину, и привел ее к человеку. И сказал человек: сей раз это кость от моих костей и плоть от плоти моей; она будет называться иша (женщина), ибо от иш (мужчины) взята она».
Это была самая долгая ночь в моей жизни. Я так устала, что засыпала на столе между схватками. «Когда же начнется?» — спросила я у акушерки, а сил у меня больше совсем не было. Она поцеловала меня. «Милая моя, уже началось». Я знала, что мой сын родится с восходом солнца, ведь он — его дитя, он возьмет его силу, и силу моей земли, и красоту моря, которое я так люблю. Я снова плыла из порта Алон в Эрец Исраэль, закрывала глаза и чувствовала ласковое покачивание волн, видела безбрежную морскую гладь на рассвете, когда корабль приближался к берегу и странный надтреснутый голос пел блюз. А потом ребенок начал рождаться, и волны вынесли меня на песчаный пляж, где я уснула, а Элизабет сидела рядом и стерегла наш багаж. Случилось чудо. Это было так прекрасно. Сквозь боль я все равно слышала плеск волн, набегавших на песок, они несли меня в море, его воды расступались, и пляж был весь залит рождающимся солнцем. «Дышите, тужьтесь-тужьтесь-тужьтесь-тужьтесь». Голос акушерки звучал так странно на этом пустынном берегу. Я дышала, я не кричала. Слезы текли из глаз, во мне катились волны. И Мишель родился. Я ослепла, столько стало света. Как меня увезли, что было потом — не знаю. Я долго спала на бескрайнем песчаном берегу, куда я наконец доплыла.
Ницца, лето 1982, отель Одиночества
Элизабет, та, что была моей матерью, умерла вчера — уже так давно, — и я, согласно ее воле, развею прах над ее любимым морем, сегодня на закате, в час, когда пляжи пустеют и лишь одинокие рыбаки стоят на дамбе, оцепенев в дремотной вечерней жаре. Я сделаю это без слез, даже почти ничего не почувствую. А потом я пойду по улицам, что тянутся вдоль моря, их названия оканчиваются на «и»: Риботти, Макарани, Верди, Александр Мари. И на перекрестках, порывами, ветер будет приносить запах моря, который она всегда любила.
Неделями, месяцами здесь палило солнце. От лесных пожаров выгорели холмы, а небо было странное, наполовину синее, наполовину затянутое дымом. Каждый вечер дождем сыпался на море пепел.
На террасах кафе сидели туристы — немцы, итальянцы, американцы, аргентинцы, арабы. Все громко, ох как громко разговаривали, женщины сильно пахли духами. Тут были опасливо озирающиеся парочки геев, няньки с детьми, моряки из Греции, с Кипра, из Советского Союза. Были клошары из Сен-Жермен-де-Пре, студенты с бульвара Сен-Мишель, разносчики пиццы, жиголо и сутенеры. Были менялы, пенсионеры, киношники, отрешенные девушки с вытравленными волосами и подростки, до беспамятства накачанные наркотиками. Были докрасна обгоревшие голландские курортники, и кабильские работяги, и старики ветераны, и парикмахеры, послы, автомеханики, министры, да мало ли кто еще?
Я видела этот мирок, я его не знала. Я не узнавала его. Все эти люди сновали туда-сюда, встречались, останавливались, разговаривали, толпа текла, как густой осадок по желобку. И шаги, так много шагов, и гул голосов, перекрывающий шум моторов. Люди, каждый в своей непроницаемой скорлупе, их взгляды, жесткие, равнодушные, похожие на отражения.
Элизабет уехала в 1973 году, во время войны Судного дня; в тот год я вышла замуж за Филипа и открыла кабинет педиатрии на шумной тель-авивской улице рядом с театром «Габима». Как я отпустила ее? Я должна была понять, что она уже больна, что молча терпит боль. Рак разъедал ее изнутри. А я хотела, спешила жить, не задумываясь, не сомневаясь.
Элизабет уехала, вся в черном, с маленьким чемоданчиком, тем же самым, с которым когда-то сошла с корабля; я пыталась ее удержать, но знала, что это бесполезно. Я говорила о своей профессии, о Филипе, о Мишеле, которому она будет нужна. Она улыбнулась, махнула рукой, мол, не надо преувеличивать. И сказала: «Он не будет скучать по мне. Это я буду по нему скучать». Потом добавила нарочито весело: «Он приедет меня навестить, когда сам захочет. Ему там понравится». А перед самой посадкой в аэропорту она обронила с каким-то беспощадным спокойствием: «Ты, конечно, поняла, что я не вернусь. Я уезжаю навсегда». Теперь я знаю, почему она это сказала.
Я иду по улицам города, которого совсем не знаю. Здесь мои отец и мать прожили всю свою молодость. Я видела лицей, где он преподавал историю и географию, видела великолепную тюрьму из серого камня, с башенками, бойницами и решетчатой оградой, украшенной острыми пиками, солнечные часы с девизом на латыни, который напомнил мне протоколы Пиквикского клуба. Я искала дом, где жили отец и мама, с балконом, выходящим на реку. Но река теперь застроена автостоянками и вычурными железобетонными сооружениями. Неподалеку, в старом здании, я обнаружила отель, и мне понравилось название: отель «Соледад», отель Одиночества. Я сняла маленький номер окнами во двор, чтобы не слышать шума уличного движения. Лежа на узкой кровати, я слышу воркование голубей, смутный гул играющего где-то радио и детских криков. Я где-то, нигде, везде понемногу.