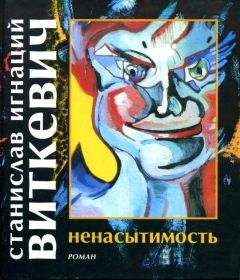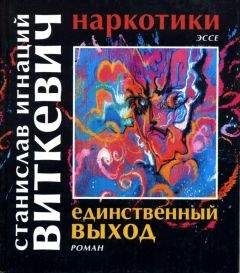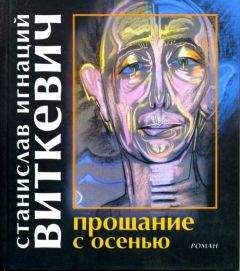Б е н ц: Ничего не поделаешь, госпожа, в моих жилах течет кровь еврейских раввинов, и я горжусь этим. До сих пор, за исключением библейских времен, нас представляли только отдельные личности — а что мы можем как нация, мы еще покажем, покажем в процессе великого обобществления, а не в области мнимых идей наподобие вашего национализма, который является только замаскированным желанием изживших себя и потерявших творческую силу классов уцелеть и самым вульгарным образом попользоваться остатками своего существования. Мы будем всемирной смазкой в шестернях и трансмиссиях огромной машины, переделывающей человечество в иную сущность, в организм высшего типа, в сверхорганизм. Мы уже проявили себя таким образом в последней всемирной революции. В этом наша миссия, поэтому мы — избранный народ. Но гои оценят нашу деятельность лет через тысячу. А пока что: Кантор, Эйнштейн, Минковский, Бергсон, Гуссерль, Троцкий и Зиновьев — этого достаточно. И Маркс, который направил нас по верному пути избранничества.
К н я г и н я: И вы, вы прежде всего. Ха, ха! Ах, успокоитесь, господин Бенц. Вы свалили в одну кучу Бергсона — величайшего вруна, единственного такого в истории философии, и Гуссерля, поистине гениального безумца, ошибки которого в сто раз важнее тривиальных суждений бесплодных псевдоскромников, которые боятся интроспекции в психологии и боятся признаться в том, что они вообще существуют, прикрываясь логическими значками. — [«Однако эта тварь не так уж глупа, как мне показалось, — с отчаянием подумал Бенц. — Живя с такой женщиной, можно создать единственную inamovible[67] систему, об которую каждый бы расшиб себе лоб!» На фоне переливающегося всеми красками, насыщенного интеллектом романа с княгиней напрасно прожитая жизнь промелькнула, как грязная тряпка, терзаемая хмурым осенним вихрем банального сомнения.] — Меня сейчас интересует совсем другое, и я жалею не о том, о чем вы. — Она устремила свой пророческий взгляд в теряющееся во мраке истории ядро предназначения всех народов мира. — Когда я вижу вашу польскую католическую готику — ах, если б готика могла быть православной — это было бы чудесно, — мне становится не по себе от стыда. Здесь, в этой стране, должны стоять византийские храмы, с золотистыми куполами, темные, вековечные, богоугодные — в них была бы ваша польская сила — связь с Востоком, а не во всех этих западных финтифлюшках, к которым вы за десять веков не смогли привыкнуть и которые всегда выглядели как третьесортная пижама в качестве коронационного убора вождя каких-то дикарей. Вот тогда бы вы увидели, чего стоит ваш народ! В нем не осталось бы ни капли вашего отталкивающего легкомыслия — этой фальши, этой показной вежливости по отношению к самим себе, маскирующей самопрезрение и стыд. Самая страшная ошибка вашей истории в том, что вы приняли христианство от Запада, а не от нас. А сколько же мы на этом потеряли: вместо союзников и предводителей мы имеем в вас, поляках, врагов, к тому же недостойных -— как и теперь. Когда я подумаю, каким чудесным типом мог бы быть византийский полячишка, мне хочется плакать, потому что этого уже никогда не будет. В последний раз вы могли еще впустить наших большевиков в 1920 году и раствориться в нас, организовать нас или быть организованными — безболезненно — не так, как с немцами, — и тем искупить историческую вину прошлого. А теперь даже объединяться с нашими белогвардейцами — хотя это уже не то — слишком поздно. Какая-то тайная сила вас всегда отделяла от нас в последний момент.
К н я з ь Б а з и л и й: Сила эта — инстинкт самосохранения народа, к которому я имею честь сейчас принадлежать. Недавно сам главнокомандующий Трепанов сказал: W każdom russkom samom błagorodnom czełowiekie jest w głubinie niemnożko griazi i swinstwa.
К н я г и н я: Ах ты, новоявленный недопольский неокатолик: это не только у русских, это у всех так. Но раньше свинство было чем-то великим, а в нашу переходную эпоху стало мелким и жалким. Это уходящее, разлагающееся начало, для которого даже в литературе уже нет места. Но в этом свинстве, как в руде, содержится иногда немного чистого золота, которое нужно уметь добыть, выплавить и очистить. Разумеется, теперь его по крайней мере на 80% меньше, чем раньше, и другими должны быть методы добычи: скорее химические, а не физические — и этой психохимией еще владеет несколько женщин на этом свете. Сначала надо разложить на элементы, а потом синтезировать заново.
С к а м п и: Жаль, что мама не знала об этом раньше, — это давно не новость, об этом знали уже древние римляне, такое понимание приходит с возрастом.
Б е н ц: Теперь уже поздно, не только в России, но и везде. Китайцы выплавят эту руду, но с другими целями. Русский народ, как и другие народы мира, не может больше существовать в прежних формах. Но на Западе в связи с этим были созданы кое-какие ценности, а там — ничего подобного.
К н я г и н я: За исключением вас, смазочный материал механизма всего человечества! Ах, только мне кажется, что существовать в вашем стиле человечество тоже не будет: поздно — ведь сила составляющих его элементов ограничена. Это ваше человечество не может существовать, как не может быть построен 500-этажный дом из небольших кирпичей. А общественного железобетона что-то не видать — тела еще выдержат какое-то время, но мозги — нет. Тела можно сбить в сверхобщность, но сверхмозга не создашь даже ты, пан Бенц, даже, а точнее, именно при растущей специализации. Едва лишь человечество начало осознавать себя как единое целое, его уже задавила сложность основ этой жизни, из которой это сознание только и могло вырасти.
Б е н ц: Полностью согласен. А вы думаете, ваш псевдофашизм остановит это прогрессивное усложнение? Нет — все должно, вы понимаете: должно! бежать все быстрее и быстрее, потому что должно возрастать производство. Не все расы выдержали это ускорение. Лишь мы, евреи, угнетенные, но полные сил, как сжатая пружина, предназначены стать в будущем мозгом и нервной системой того сверхорганизма, который сейчас создается. В нас сконцентрируется сознание и руководство — другие станут безвольными куклами, обреченными на беспросветный труд...
К н я г и н я: Во славу вам, скрытый националист. Вся надежда на то, что и вы исчерпаете себя, и скорее это мы используем вас для наших целей. — (Это прозвучало неискренне, бессильно.)
Б е н ц: Солнце тоже когда-нибудь погаснет... — (Он не окончил этой мысли.)
К н я г и н я: Вы, логики, странные люди. Когда вы говорите не о своих значках, а о чем-нибудь другом, вы так же неточны или не совсем точны, как и всякий другой человек. И даже позволяете себе больше глупостей, покидая абсолютную сферу логики, где ваша аккуратность доходит до абсурда. А когда вас припирают к стенке, прикидываетесь скромниками, которые ничего не знают и этим гордятся. Таким образом, вы ничем не рискуете, но остаетесь бесплодными — вот в чем дело.
Бенц триумфально захохотал. Ему удалось-таки вывести из себя эту, что ни говори, сильную даму. Он был доволен тем, что овладел вниманием салона, расцветавшего, правда, в восемнадцатом веке, а сейчас доживавшего последние дни. На безрыбье и рак рыба. Генезип был стерт в порошок, его просто не существовало. Последним усилием он пытался удержать свое «я» (точнее, его последнюю «soupçon»[68]), растекающееся омерзительной слизью. «Я» ускользало от него и покорно ползло под ноги (все еще красивые) потенциально изменившей ему любовницы. Это он знал точно, несмотря на всю свою глупость. Он только не мог понять, почему до сих пор она относилась к нему серьезно. Эта «на самом деле» взрослая персона, так умно говорящая о чем угодно с настоящими мыслителями. «Это старая, отжившая свой век баба, облезлая макака», — неискренне убеждал он себя без всякого результата. Княгиня встала и роскошным (именно так) жестом откинула назад массу медных волос, словно хотела сказать: «Ну хватит этой болтовни — пора заняться чем-нибудь серьезным». Непобедимой, слегка враскачку, молодой походкой, которая доводила до отчаяния все ее жертвы, легкой, как у обезьяны, и могучей, как у тигра, манящей к порочным и убийственным вещам, она пересекла салон и, как статуя всемогущей богини полового ада, остановилась перед трепещущим Тенгером. С видимым пренебрежением она слегка коснулась его плеча. Путрицид дернулся, словно ужаленный в самое чувствительное место. Вставая, он глянул исподлобья своими голубыми, словно заплаканными, глазами на жену, которая была ему и обузой (гирей на высохшей ноге), и основой более или менее сносной жизни. В ней чувствовалось напряжение от углубляющейся жажды мести. «Без выволочки не обойдется», — подумал он про себя. [На дворе умирал мартовский день. Выползшие из-за западных вершин лиловые тучи смело мчались над голыми липами и яворами парка. Смятение весны, в этом краю неизмеримо более грустной, чем хмурая осень на равнине, проникало сквозь, казалось, гнущиеся под его напором оконные стекла и овладевало сгрудившимися в салоне людьми, которые напоминали насекомых, ползущих навстречу неведомому року, скрытому в густеющей китайской буре.] Вспыхнула электрическая люстра, в свете которой лица мужчин выглядели помятыми, изнуренными, трупными. Одна лишь княгиня источала раздражающую половую мощь, расцветала осенней пышностью, гася дьявольским блеском своих прелестей молодую крестьянскую красоту жены Тенгера. Она чувствовала, что сегодня — вершина жизни ее последних лет: риск сегодняшнего эксперимента насыщал ее амбиции по самое горло. Она ощущала себя самкой с головы до ног — ей припомнились добрые былые и уже невозвратимые времена. — Ну, маэстро, за инструмент, — шепнула она на ухо шатающемуся Тенгеру. Страдание застывшей в ненависти, перепуганной молодой крестьянки распаляло в ней безумную жажду наслаждения. Дети испуганно таращили глаза, держась за руки.