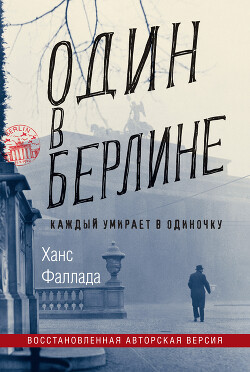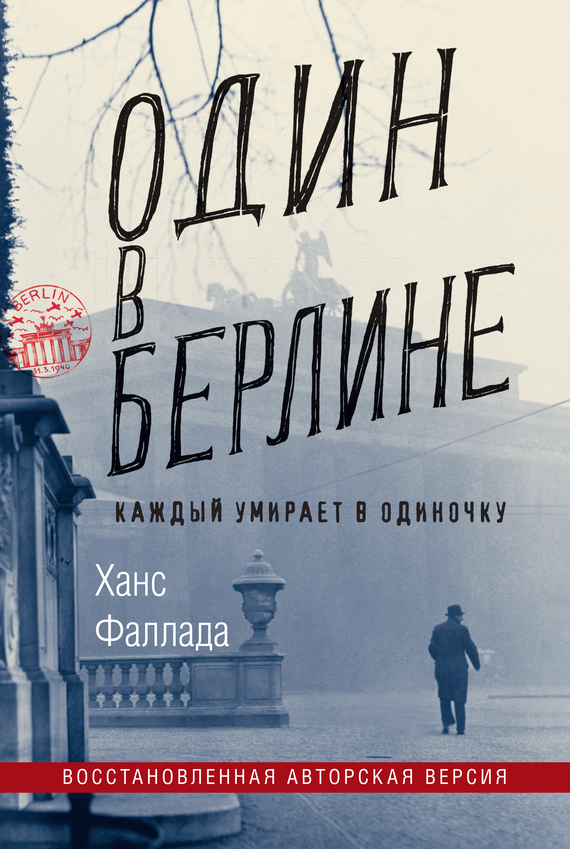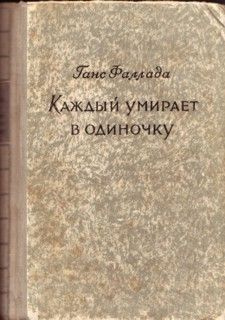Они уже у двери, кажется, и впрямь сейчас уйдут. Однако ассистент внезапно вытаскивает из кармана открытку, квангелевскую открытку, сует ее под нос растерявшемуся Энно Клуге и резко приказывает:
— А ну-ка, прочти, сынок! Только быстро, не мямли и не запинайся!
Легавый в своем амплуа.
Но, видя, как Клуге берет открытку, как в его вытаращенных глазах возникает все больше недоумения, как Клуге начинает мямлить: «Немец, не забывай! Все началось с аншлюса Австрии. Затем Судетская область и Чехословакия. Нападение на Польшу, Бельгию, Голландию», — уже тогда ассистент вполне уверен: открытку этот малый никогда в руках не держал, никогда ее не читал и уж тем более не писал — для этого он слишком глуп!
Он раздраженно выхватывает открытку из рук Энно Клуге, коротко бросает «Хайль Гитлер!» и вместе с унтером и задержанным покидает кабинет врача.
Врач медленно рвет приготовленный для Энно Клуге больничный. Случай подсунуть его так и не подвернулся. Жаль! Хотя, пожалуй, ему бы это не помогло, пожалуй, этот человек, которому трудности нынешних времен совершенно не по плечу, уже обречен на гибель. Пожалуй, по-настоящему ему уже не будет толку ни от какой помощи извне, ведь внутри у него нет стержня.
Жаль…
Глава 24
Допрос
Если ассистент уголовной полиции, несмотря на твердую уверенность, что Клуге никак не может быть ни автором, ни распространителем открыток, если он тем не менее в телефонном докладе комиссару Эшериху намекнул, что эти памфлеты, пожалуй, все-таки распространяет Клуге, то поступил он так оттого, что умный подчиненный должен всегда учитывать мнение начальника. Против Клуге свидетельствовали уверенные показания докторской помощницы, госпожи Кизов, а уж обоснованны они или нет, пусть господин комиссар выясняет сам.
Если обоснованны, то ассистент — дельный сотрудник и благоволение комиссара ему обеспечено. Если же нет, то комиссар умнее ассистента, а такая ситуация для подчиненного зачастую выгоднее всякого усердия.
— Ну? — произнес долговязый серый Эшерих, аистиной походкой входя в участок. — Ну, коллега Шрёдер? Где ваша добыча?
— В дальней камере слева, господин комиссар.
— Домовой признался?
— Кто? Домовой? Ах, ну да, понимаю! Нет, господин комиссар, но после нашего телефонного разговора я, разумеется, сразу забрал его сюда.
— Хорошо! — похвалил Эшерих. — И что ему известно об открытках?
— Я, — осторожно начал ассистент, — дал ему прочитать найденную. То есть ее начало.
— Впечатление?
— Мне бы не хотелось опережать события, господин комиссар, — осторожно проговорил ассистент.
— Не робейте, коллега Шрёдер! Впечатление?
— Лично мне представляется невероятным, чтобы автором открытки был он.
— Почему?
— Он не очень умен. К тому же страшно перепуган.
Комиссар Эшерих удовлетворенно расправил песочные усы.
— Не очень умен… страшно перепуган, — повторил он. — Н-да, мой-то Домовой умен и определенно не перепуган. Отчего же вы полагаете, что взяли кого надо? Расскажите-ка!
Ассистент Шрёдер так и сделал. Прежде всего он настойчиво повторил обвинения докторской помощницы, подчеркнул и попытку к бегству.
— Я не мог поступить иначе, господин комиссар. Согласно последним приказам я должен был его задержать.
— Правильно, коллега Шрёдер. Совершенно правильно. Я бы поступил точно так же.
Благодаря этому рапорту Эшерих снова несколько воспрянул духом. Все-таки это получше, чем «не очень умен» и «страшно перепуган». Возможно, это все-таки распространитель открыток, хотя вообще-то до сих пор комиссар твердо полагал, что помощников у Домового нет.
— Вы проверили его документы?
— Вот они. В целом подтверждают его рассказ. По моему впечатлению, господин комиссар, он просто лодырь — боится фронта, работать не хочет, вдобавок играет на бегах, я нашел при нем целую пачку сводок с результатами бегов и расчеты. А кроме того, довольно обыкновенные письма от разных бабенок, тот еще типчик, ну, вы понимаете, господин комиссар. А ведь ему без малого пятьдесят.
— Хорошо, хорошо, — сказал комиссар, хоть и не находил тут ничего хорошего. Ни автор открыток, ни возможный распространитель никак не может хороводиться с бабьем. В этом он был уверен. И ожившая было надежда снова начала блекнуть. Но затем Эшерих подумал о своем начальнике, обергруппенфюрере Пралле, и о еще более высоком начальстве вплоть до Гиммлера. В ближайшее время они здорово подпортят ему жизнь, если он не предъявит зацепок. А вот это зацепка, во всяком случае, имеются тяжкие обвинения и подозрительное поведение. Можно проследить эту ниточку, пусть даже в самой глубине души сомневаешься, что она — та самая. Выиграешь время и сможешь терпеливо ждать дальше. От этого никто не пострадает. Ведь этакий тип, в конце концов, ничего не значит!
Эшерих встал.
— Схожу-ка я в камеру, Шрёдер. Давайте открытку и ждите здесь.
Комиссар шагал тихонько, крепко сжимая в руке ключи, чтобы не звякали. Осторожно отодвинул заглушку глазка, заглянул в камеру.
Арестованный сидел на табуретке. Подперев голову рукой, устремив взгляд на дверь. Казалось, будто он смотрит прямо во въедливый глаз комиссара. Но выражение лица свидетельствовало, что он не видит ничего. Клуге даже не вздрогнул, когда отодвинули заслонку, в лице его не было ни малейшего напряжения, какое присуще человеку, чувствующему, что за ним наблюдают. Он просто смотрел прямо перед собой, причем не задумчиво, скорее в дремоте и мрачных предчувствиях.
Комиссар у глазка теперь совершенно уверился: это не Домовой и не его сообщник. А просто ошибка — в чем бы его ни обвиняли и как бы подозрительно он себя ни вел.
Но тут Эшерих снова подумал о своих начальниках, покусал усы, размышляя, как бы подольше затянуть это дело, прежде чем обнаружится, что взяли не того. Срамиться-то ему тоже незачем.
Он решительно отпер камеру и вошел. Арестованный вздрогнул, когда лязгнул замок, сперва растерянно уставился на вошедшего, потом сделал попытку встать.
Но Эшерих тотчас усадил его обратно на табурет.
— Сидите-сидите, господин Клуге. В нашем возрасте поясница дает себя знать!
Он рассмеялся, и этот Клуге тоже сделал поползновение рассмеяться, исключительно из вежливости и несколько натужно.
Комиссар откинул от стены нары, сел.
— Ну что ж, господин Клуге, — сказал он, пытливо глядя в бледное лицо с безвольным подбородком, странно толстогубым красным ртом и светлыми глазами, которые то и дело моргали. — Ну что ж, господин Клуге, расскажите-ка, что у вас на сердце. Я — комиссар Эшерих из тайной полиции, из гестапо то есть. — И, мягко увещевая, добавил, так как мужичонка испуганно вздрогнул уже при одном упоминании гестапо: — Не надо бояться. Мы детей не едим. А вы ведь всего лишь ребенок, я вижу…
От легкого участия, сквозившего в этих словах, глаза Клуге мгновенно опять наполнились слезами, лицо задрожало, челюсти судорожно задвигались.
— Ну-ну! — сказал Эшерих, положив ладонь на руку мужичонки. — Ведь ничего страшного не случилось. Или все-таки?
— Все погибло! — с отчаянием воскликнул Энно Клуге. — Мне конец! Больничного не получил и должен был явиться на работу. А сижу под арестом, и они отправят меня в концлагерь, а там я мигом сыграю в ящик, двух недель не выдержу!
— Ну-ну! — опять сказал комиссар, словно обращаясь к ребенку. — С вашей фабрикой все уладится. Если мы кого задерживаем и оказывается, что человек-то порядочный, мы заботимся и о том, чтобы из-за ареста он не понес ущерба. Вы же порядочный человек, господин Клуге, а?
Лицо Клуге снова задергалось, потом он решился сделать этому симпатичному человеку частичное признание:
— Они считают, я недостаточно работаю!
— А как вы сами считаете, господин Клуге? По-вашему, вы работаете достаточно? Или?
Клуге опять призадумался. Потом жалобно проговорил:
— Я много болею. А они знай твердят, сейчас не время болеть.