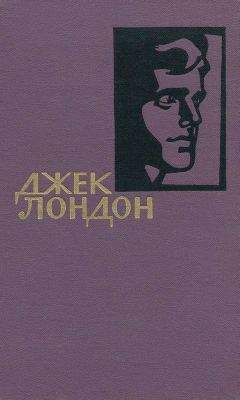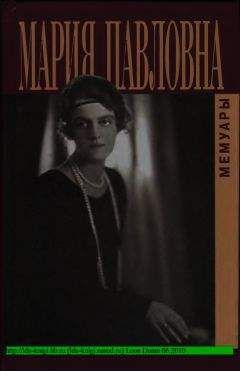Постель для Михаила Ильича была устроена в кабинете на турецком диване. В спальне больному казалось жарко и неудобно.
- Что-нибудь одно: будь попом или гусаром! - сказал он, тяжело опускаясь на диван. - Что за манеры! Ах, боже мой… Я бы такого ферта-попа в дьячки разжаловал.
Глядя на его капризное, несчастное лицо, Яншин хотел возразить ему, сказать какую-нибудь дерзость, сознаться в своей ненависти, но вспомнил приказ докторов - не волновать больного, и промолчал. Впрочем, не в докторах дело. Чего бы только нельзя было наговорить и накричать, если бы с этим ненавистным человеком не была связана навеки и безнадежно судьба сестры Веры?
У Михаила Ильича была манера постоянно выпячивать вперед сжатые губы и двигать ими в стороны, точно он сосал леденец, и это движение бритых и полных губ раздражало теперь Яншина.
- Ты, Саша, иди туда… - сказал Михаил Ильич. - Ты здоров и, кажется, равнодушен к церкви… Для тебя все равно, кто бы ни служил… Иди.
- Но ты ведь тоже равнодушен к церкви, - тихо проговорил Яншин, сдерживая себя.
- Нет, я верую в провидение и признаю церковь.
- Вот именно. Как мне кажется, в религии тебе нужны не бог и не истина, а такие слова, как провидение, свыше…
Яншин хотел прибавить: «иначе бы сегодня ты не оскорбил так священника», но замолчал. Ему казалось, что он уж позволил себе сказать и без того слишком много.
- Иди, пожалуйста! - проговорил нетерпеливо Михаил Ильич, который не любил, когда с ним не соглашались или говорили о нем самом. - Я никого не желаю стеснять… Я знаю, как тяжело сидеть около больного… Знаю, брат! Всегда говорил и буду говорить: нет тяжелее и святее труда, как труд сиделки. Иди, сделай милость.
Яншин вышел из кабинета. Спустившись к себе вниз, он надел пальто и шляпу и через парадную дверь прошел в сад. Был уже девятый час. Наверху пели канон. Пробираясь между клумб, розовых кустов, голубых из гелиотропа вензелей V и M (то есть Вера и Михаил) и мимо множества чудесных цветов, которые в этой усадьбе никому не доставляли удовольствия, а росли и цвели, вероятно, тоже «по традиции» Яншин спешил и боялся, как бы не окликнула его сверху жена. Она легко могла его увидеть. Но вот он, пройдя немного парком, вышел на еловую аллею, длинную и темную, сквозь которую по вечерам бывает виден закат. Тут старые, дряхлые ели всегда, даже в тихую погоду, издают легкий, суровый шум, пахнет смолой, и ноги скользят по сухим иглам.
Яншин шел и думал о том, что ненависть, которая сегодня во время всенощной так неожиданно овладела им, уже не оставит его и с нею придется считаться; она вносила в его жизнь еще новое осложнение и обещала мало хорошего. Но от елей, спокойного, далекого неба и от праздничной зари веяло миром и благодатью. Он с удовольствием прислушивался к своим шагам, которые одиноко и глухо раздавались в темной аллее, и уж не спрашивал себя: «Как же быть?..»
Почти каждый вечер он ходил на станцию получать газеты и письма, и это, пока он жил у зятя, было его единственным развлечением. Почтовый поезд приходил в три четверти десятого, именно в то время, когда дома начиналась нестерпимая вечерняя скука. В карты играть было не с кем, ужинать не давали, спать не хотелось, и потому приходилось поневоле или сидеть около больного, или же читать вслух Леночке переводные романы, которые она очень любила. Станция была большая, с буфетом и с книжным шкафом. Можно было закусить, выпить пива, посмотреть книги… Больше же всего Яншину нравилось встречать поезд и завидовать пассажирам, которые куда-то ехали и, казалось ему, были счастливее, чем он.
Когда он пришел на станцию, то на плацформе уже гуляла в ожидании поезда та публика, которую он привык видеть здесь каждый вечер. Тут были дачники, жившие около станции, два-три офицера из города, какой-то помещик со шпорой на правой ноге и с догом, который ходил за ним, печально опустив голову. Дачники и дачницы, очевидно, хорошо знакомые между собой, громко разговаривали и смеялись. Как всегда, больше всех был оживлен и громче всех смеялся дачник-инженер, очень полный мужчина лет 45, с бакенами и с широким тазом, одетый в ситцевую рубаху навыпуск и плисовые шаровары. Когда он, выпятив вперед свой большой живот и поглаживая бакены, проходил мимо Яншина и ласково взглядывал на него своими маслеными глазами, то Яншину казалось, что этот человек живет с большим аппетитом. У инженера было даже особенное выражение на лице, которое нельзя было иначе прочесть, как только: «Ах, как вкусно!» Фамилия у него была нескладная, тройная, и Яншин помнил ее только потому, что инженер, любивший громко поговорить о политике и поспорить, часто клялся и говорил:
- Не будь я Битный-Кушле-Сувремович!
Говорили, что он был большой весельчак, хлебосол и страстный винтер. Яншину давно уже хотелось познакомиться с ним, но подойти к нему и заговорить он не решался, хотя догадывался, что тот был не прочь от знакомства… Гуляя одиноко по плацформе и слушая дачников, Яншин всякий раз почему-то вспоминал, что ему уже 31 год и что, начиная с 24 лет, когда он кончил в университете, он ни одного дня не прожил с удовольствием: то тяжба с соседом из-за межи, то у жены выкидыш, то кажется, что сестра Вера несчастна, то вот Михаил Ильич болен и нужно везти его за границу; он соображал, что все это будет продолжаться и повторяться в разных видах без конца и что в 40 и 50 лет будут такие же заботы и мысли, как и в 31; одним словом, из этой твердой скорлупы ему не выйти уже до самой смерти. Надо уметь обманывать себя, чтобы думать иначе. И ему хотелось перестать быть устрицей хотя на один час; хотелось заглянуть в чужой мир, увлечься тем, что не касалось его лично, поговорить с посторонними для него людьми, хотя бы с этим толстым инженером или с дачницами, которые в вечерних сумерках все были так красивы, веселы, а главное молоды.
Пришел поезд. Помещик с одной шпорой встретил полную пожилую даму, которая обняла его и несколько раз повторила взволнованным голосом: «Alexis!» По всей вероятности, это была его мать. Он церемонно, точно балетный jeune premier, звякнув шпорой, предложил ей руку и сказал носильщику бархатным слащавым баритоном:
- Будьте так любезны, получите наш багаж!
Скоро поезд ушел… Дачники получили свои газеты и письма и разошлись по домам. Наступила тишина… Яншин погулял еще немного по плацформе и пошел в залу I класса. Есть ему не хотелось, но он все-таки съел порцию телятины и выпил пива. Церемонные, изысканные манеры помещика со шпорой, его слащавый баритон и вежливость, в которой было так мало простоты, произвели на него неотвязчивое болезненное впечатление. Он вспоминал его длинные усы, доброе и неглупое, но какое-то странное, непонятное лицо, его манеру потирать руки, как будто было холодно, и думал о том, что если полная пожилая дама действительно мать этого человека, то, вероятно, она очень несчастна. Ее взволнованный голос говорил только одно слово: «Alexis!», но ее робкое, растерянное лицо и любящие глаза договаривали все остальное…
II
Вера Андреевна видела в окно, как уходил ее брат. Она знала, что он идет на станцию, и вообразила себе еловую аллею всю до конца, потом спуск к реке, широкий вид и то впечатление покоя и простоты, какое всегда производили на нее река, заливные луга, а за ними станция и березовый лес, где жили дачники, а направо вдали - уездный городок и монастырь с золотыми главами… Потом она вообразила опять аллею, темноту, свой страх и стыд, знакомые шаги и все то, что может повториться опять, быть может, даже сегодня… И она вышла из залы на минутку, чтобы распорядиться насчет чаю для батюшки, и, придя в столовую, достала из кармана письмо в твердом конверте и с заграничной маркой, согнутое вдвое. Это письмо было принесено ей минут за пять до всенощной, и она успела уже прочесть его два раза.
«Милая моя, дорогая, мучение мое, тоска моя», - прочитала она, держа письмо в обеих руках и давая им обеим упиваться прикосновением к этим милым, горячим строкам. «Милая моя, - начала она опять с первого слова, - дорогая, мучение мое, тоска моя, ты пишешь убедительно, но я все-таки не знаю, что мне делать. Ты тогда сказала, что наверное уезжаешь в Италию, и я, как сумасшедший, поскакал вперед, встретить тебя здесь и любить мою милую, мою радость… Я думал, что здесь ты уже не будешь в лунные ночи бояться, как бы мою тень не увидели из окна твой муж или брат. Здесь я гулял бы с тобою по улицам и ты не боялась бы, что Рим или Венеция узнают о том, что мы любим друг друга. Прости, мое сокровище, но есть Вера робкая, малодушная, нерешительная; и есть другая Вера - равнодушная, холодная, гордая, которая при посторонних называет меня «вы» и делает вид, что едва замечает меня. Я хочу, чтобы меня любила эта другая, эта гордая и прекрасная… Я не хочу быть филином, который имеет право наслаждаться только вечером и ночью. Дай мне света! Потемки гнетут меня, милая, и эта наша любовь урывками и украдкой держит меня впроголодь, и я раздражен, страдаю, бешусь… Ну, одним словом, я думал, что моя Вера, не первая, а другая, здесь, за границей, где от надзора легче укрыться, чем дома, даст мне хоть один час полной, настоящей любви, без оглядки, чтобы я хоть один раз как следует почувствовал себя любовником, а не контрабандистом, чтобы ты, когда обнимаешь, не говорила: «Мне уже пора!» Я думал так, но вот прошел уже целый месяц, как я живу во Флоренции, тебя нет, и ничего неизвестно… Ты пишешь: «в этом месяце мы едва ли выберемся». Что же это такое? Отчаяние мое, что ты делаешь со мной? Пойми, я без тебя не могу, не могу, не могу!!! Говорят, Италия прекрасна, но мне скучно, я точно в изгнании, и моя сильная любовь томится, как ссыльная. Мой каламбур, скажешь, не смешон, но ведь зато я смешон, как шут. Я мечусь то в Болонью, то в Венецию, то в Рим и все смотрю, нет ли в толпе женщины, похожей на тебя. От скуки я по пяти раз обошел уже все картинные галереи и музеи и видел на картинах только тебя одну. В Риме я с одышкою взбираюсь на Monte Pincio и смотрю оттуда на вечный город, но вечность, красота, небо - все сливается у меня в один образ с твоим лицом и в твоем платье. А здесь, во Флоренции, я хожу по лавкам, где продают скульптуру, и, когда никого не бывает в лавке, обнимаю статуи, и мне кажется, что это я тебя обнимаю. Ты нужна мне сейчас, сию минуту… Вера, я безумствую, но прости, я не могу, я завтра уеду к тебе… Это письмо лишнее, ну, да пусть! Милая, значит, решено: я завтра еду».