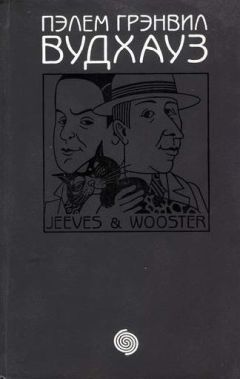— Боже мой! — выпалил я, если слово «выпалил» сюда подходит. — Неужели вы действительно собираетесь записать события в Тотли?
— Да, сэр.
— И как меня подозревали в краже янтарной статуэтки у старика Бассета?
— Да, сэр.
— И что я провел ночь в тюремной камере? Нельзя ли без этого обойтись? Почему бы не предоставить мертвому прошлому погребать своих мертвецов? Почему бы не предать все это забвению?
— Это невозможно, сэр.
— Почему невозможно? Не говорите мне, что вы ничего не забываете. Ваша голова — не бездонная бочка.
Я думал, что положил его на лопатки, но не тут-то было.
— Как член клуба, я не имею права оказать вам эту услугу. Пункты устава, касающиеся клубной книги, очень строги, и за неподачу сведений установлено суровое наказание. Известны прецеденты, когда провинившихся исключали.
— Понимаю, — сказал я. Я вполне сознавал, что он раздираем противоречием: вассальная приверженность побуждала его служить молодому хозяину верой и правдой, в то время как естественное нежелание вылететь из горячо любимого клуба подталкивало его отмахнуться от хозяйских терзаний. Ситуация, как мне казалось, вынуждала искать компромисс. — Не могли бы вы тогда как-то подретушировать свой рассказ? Выкинуть парочку наиболее смачных эпизодов?
— Боюсь, что нет, сэр. От нас требуют полного отчета. Комитет на этом настаивает.
Думаю, я погорячился, когда выразил пожелание, чтобы члены его проклятого комитета поскользнулись на банановой кожуре и свернули себе шеи, потому что, как мне показалось, по его лицу скользнула тень страдания. Но он умел уважать чужое мнение и простил мне этот выпад.
— Понимаю ваши чувства, сэр. Но поставьте себя на место членов комитета. Клубная книга — исторический документ. Она существует уже более восьмидесяти лет.
— Тогда она должна быть величиной с дом.
— Нет, сэр, она состоит из отдельных томов. Записи в последнем ведутся уже около двенадцати лет. И нужно помнить, что не всякий хозяин заслуживает того, чтобы много о нем писать.
— Заслуживает?!
— Я хотел сказать: дает к этому повод. Как правило, нескольких строк бывает достаточно. Ваши восемнадцать страниц — исключение.
— Восемнадцать? Я думал, что одиннадцать.
— Вы забываете про мой отчет о ваших злоключениях в Тотли-Тауэрс, который я уже почти закончил. Предвижу, что он займет примерно семь страниц. Позвольте, сэр, я похлопаю вас по спине.
Он вызвался оказать мне эту любезность, потому что я поперхнулся глотком кофе. Хватило нескольких похлопываний, чтобы я пришел в себя и почувствовал, что разгневан не на шутку, как это бывает всякий раз, когда речь заходит о его литературной работе. Восемнадцать страниц, — как вам это! — и на каждой уйма таких фактов, которые, всплыви они наружу, отправят на дно мою репутацию. Я испытывал сильное желание отдубасить тех, кто все это выдумал, и в моем голосе зазвучал благородный гнев.
— Ужасно. Просто ужасно. Знаете, чему ваш проклятый комитет способствует? Шантажу, вот чему. Представьте, что книга попала в руки недостойного человека. Чем это может кончиться? Полным крахом репутации, Дживс.
Выпрямился он в этот момент или нет, я не знаю: я зажигал сигарету и не видел, — но он заговорил ледяным тоном, каким говорят, когда вытянутся во весь рост.
— Среди членов клуба «Подручный Ганимеда» нет недостойных людей.
Я запротестовал.
— Это вы так думаете. А как же Бринкли? — спросил я. — Он ведь член клуба?
Этот Бринкли поступил ко мне на службу несколько лет назад по рекомендации агентства, когда наши пути с Дживсом ненадолго разошлись из-за того, что он не одобрял моего увлечения игрой на банджолайке.
— Провинциальный член, сэр. Он редко появляется в клубе. Кстати, сэр, его фамилия не Бринкли, а Бингли.
Я раздраженно отмахнулся мундштуком. Бринкли он или Бингли — погоды не делало.
— Как его зовут, не суть важно, Дживс. А важно, что, отлучившись из дома в свое свободное время, он вернулся в состоянии сильного опьянения, поджег дом и пытался нашинковать меня, как кочан капусты.
— Очень неприятный инцидент, сэр.
— Услыхав шум, я спустился из своей комнаты и стал свидетелем его рукопашной схватки с напольными часами, которые, видно, чем-то ему не угодили. Потом он опрокинул лампу и бросился на меня по лестнице с саблей наголо. Только чудом я остался ныне здравствующим Бертрамом Вустером, воистину только чудом. А вы говорите, что среди членов клуба «Подручный Ганимеда» нет недостойных людей. Ха! — сказал я. Я редко пользуюсь этим междометием, но сейчас не удержался.
Обстановка накалялась. Закипала обида, рвалось наружу недовольство. К счастью, в этот момент заверещал телефон и отвлек мое внимание. Дживс подошел к телефону.
— Миссис Траверс, сэр, — доложил он.
2
Я и сам уже догадался, что на проводе моя добрая почтенная тетушка Далия, имеющая привычку говорить по телефону с таким легочным напором, словно она американский свинопас, скликающий своих подопечных к кормушке на просторах Дикого Запада. Она обрела громогласность еще в юности, когда часто ездила на псовую охоту. Представьте себе, что гончие то норовят попасть под копыта лошадей, то отвлекаются на погоню за кроликами, и вы поймете, что девушка на охоте быстро становится голосистой. Думаю, что когда тетя в голосе, ее слышно в соседних графствах.
Я с радостью подошел к телефону. Мало с кем из друзей и близких мне так приятно общаться, как с этой добродушной сестрой моего покойного отца, и к тому же мы давно не виделись. Она почти безвыездно живет в своем имении в окрестностях Маркет-Снодсбери, графство Вустершир, а я, о чем говорят и записи, только что сделанные Дживсом в клубной книге, в последнее время не приезжал в те края за недосугом. Я поднял трубку, весело улыбаясь. От моей улыбки, конечно, не было проку, — тетка все равно не могла ее видеть, — но ведь важен настрой, в конце концов.
— Привет, пожилая родственница.
— Привет, юное недоразумение. Ты не пьян?
Подозрение, что я могу быть под мухой в десять часов утра, естественно, уязвило мое самолюбие, но я в который раз сказал себе, что такой уж они народ, эти тетушки. Дайте мне тетушку, всегда говорю я, и я вам покажу пожилую даму, которую нимало не заботит, как глубоко ее obiter dicta[57] могут оскорбить племянника. С подчеркнутой холодностью я успокоил ее относительно волновавшего ее вопроса и спросил, чем могу быть полезен.
— Пообедаете у меня?
— Я не в Лондоне. Я звоню из дома. Ты можешь, как ты выражаешься, быть полезен своим приездом ко мне. Сегодня, если у тебя получится.
— До чего приятно это слышать, старая прародительница. Ваше приглашение меня очень обрадовало, — сказал я, всегда готовый воспользоваться ее гостеприимством и вновь переведаться с бесподобными съедобностями, которые стряпает ее замечательный французский повар Анатоль, благодетель пищеварительных трактов. Я всегда жалею, что у меня нет запасного желудка, чтобы поручить и его заботам Анатоля. — Сколько я буду у вас гостить?
— Сколько пожелаешь, беспечный ты мой. Я дам тебе знать, когда пора будет выметаться. Главное — чтобы ты приехал.
Конечно, я был, как и всякий бы на моем месте, тронут той настойчивостью, с которой она добивалась моего визита А то в кругу моих знакомых слишком многие, приглашая меня в гости, специально подчеркивают, что ждут меня только на выходные, и обязательно говорят, что самый удобный обратный поезд отходит в понедельник утром. Я улыбнулся еще шире.
— Очень мило, что вы меня пригласили, ближайшая родственница.
— Ну, разумеется, мило.
— Предвкушаю радость свидания с вами.
— Еще бы.
— Каждая минута до нашей встречи будет казаться мне часом. Как дела у Анатоля?
— Ты только о нем и думаешь, прожорливый поросенок.
— Что делать? Вкусовые ощущения устойчивы. Как поживает его искусство?
— Оно в расцвете.
— Прекрасно.
— Медяк говорит, что кухня Анатоля стала для него откровением.
Я попросил ее повторить. Мне послышалось, будто она сказала: «Медяк говорит, что кухня Анатоля стала для него откровением», хотя я знал, что она не могла так сказать. Но оказывается, все-таки сказала.
— Медяк? — переспросил я, не веря своим ушам.
— Гарольд Уиншип. Он просил называть его Медяком. Он живет сейчас у меня. Говорит, что он твой приятель, в чем он, конечно, никогда не признался бы, если бы не существовали веские улики. Вы ведь знакомы? По его словам, вы вместе учились в Оксфорде.
Я издал возглас радости, а она сказала, чтобы я не смел больше так орать, иначе она взыщет с меня компенсацию за свои лопнувшие барабанные перепонки. В общем, как говорит старинная пословица, горшок стал чайнику за копоть пенять: мои-то барабанные перепонки были на пределе с самого начала переговоров.