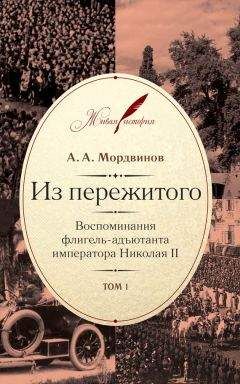Тюрберт насмешливо посмотрел на Олексина, но промолчал. Совримович, всегда близко к сердцу принимавший размолвки между друзьями, с беспокойством следил за Отвиновским, ставшим вдруг надменно, почти враждебно холодным, И лишь пленный бек отрешенно сидел у костра да Захар беззвучно убирал посуду.
— Вы благодетели по натуре, Олексин, — невесело усмехнулся поляк. — Благодетели искренние, бескорыстные, щедрые. Но вам лень подумать…
— Вот и лень появилась, — улыбнулся Тюрберт. — Признаться, ждал ее с нетерпением: как, думаю, вы без этого-то аргумента обойдетесь? А вы и не обошлись, и все сразу стало таким банальным, что, право, господа, захотелось поспать. Оставим банальности земским сердцеедам и предадимся самому безвинному из удовольствий: сну в обнимку с шинелью.
— Леность не аргумент, леность — результат, — сказал поляк. — Вся Европа, все ее страны и народы стоят или сидят, а вы лежите, пятками упираясь аж в Тихий океан. У вас — масштабы, у вас — размах, у вас — идеи под стать размерам. Я спросил вас о деяниях вашего отечества, об истории вашей. Да, великая история, есть чем гордиться, господа, есть, готов признать как воин, коему не чужды честь и отвага. Но сколько же в этой истории темного, сколько крови и слез, сколько обид! Когда-нибудь — не теперь, нет! — но когда-нибудь вы сочтете их. Хотя бы во имя справедливости, без которой не может жить ни человек, ни народ, ни государство.
— До чего же вы ненавидите нас, господин инсургент, — сказал Тюрберт, улыбаясь с привычной безмятежностью. — Но я не в претензии, поймите. Вы отвыкли служить отечеству, заменив отечество идеей. А идея — неадекватная замена, Отвиновский. Идеи приходят, идеи трансформируются, уходят или умирают, а отечество остается. И наша сила — в нем.
— Ваша сила вскоре явится сюда, и поэтому мне самое время присоединиться к тем, кто вроде меня еще не обрел своего отечества: я имею в виду болгар. Передать им что-нибудь, Олексин?
— Благодарю, ничего.
— Счастливо, господа, я заночую у Меченого. — Отвиновский двинулся было из освещенного круга, но остановился. Добавил, понизив голос: — Не хочу быть пророком, но почти убежден, что бравый рубака Медведовский повесит нашего гостя на его же собственном ремешке.
Отвиновский ушел; офицеры молчали, но молчали по-разному. Гавриил сосредоточенно размышлял о чем-то непривычном, что, может быть, и не было для него новым, но от чего прежде он легко отмахивался, а сейчас почему-то не мог отмахнуться, удивлялся, что не мог, и чуточку этим гордился. Тюрберту все всегда было ясно не потому, что он не умел или избегал думать, а потому что все им услышанное лежало за пределами его совести и чести, а значит, и не относилось к нему. Все это и подобное этому решалось за него, бралось на чью-то иную совесть, было делом государственным, и он не желал да и не считал себя вправе сомневаться. А Совримович страдальчески морщился, терзал цыганскую бороду и вздыхал.
— У меня скверно на душе, господа, — признался он. — Думаю, потому скверно, что Отвиновский в чем-то прав.
— Оставьте! — с непривычным раздражением крикнул Тюрберт. — Мы смотрим на мир с разных колоколен, и не перескакивайте на чужую, Совримович: наша и повыше и погромче. Эти господа думают только о себе, воюют только за себя и умирают за свою милую племенную ниву. А мы первыми в мире шагнули за племенные границы, мы первыми научились видеть дальше собственного порога и думать шире родимой околицы. И то, что мы с вами здесь, в Сербии, то, что мы во имя братьев по вере покинули свои дома и готовы отдать свои жизни, лучшее доказательство вечной правоты России.
— Братья славяне, — опять вздохнул Совримович. — А нужно это им, братьям славянам, Тюрберт? Нужно?
— Что — это? Помощь?
— Помощь нужна, я не о помощи. Я приехал сюда по зову души своей и… и горжусь этим. Я готов помогать, готов сражаться, готов, если понадобится, умереть за свободу и счастье моих братьев, но… Ах, боже мой, я не знаю, как высказать то, что тревожит меня, господа. Нет чего-то общего, чего-то большего, чем все наши жизни. Нет! Почему же нет? Может быть, потому, что у нас нет знамени?
— С такими мыслями, Совримович, вам трудно служить в русской армии.
— Я кое-что понял, господа, не все, правда, не до конца, но кое-что понял, — не слушая Тюрберта, продолжал Совримович. — Знаете, и Карагеоргиев в чем-то прав и Отвиновский, а ведь они тоже славяне. Значит, что-то не так, господа. Значит, что-то мы напутали в московских салонах, что-то недодумали или незаметно для самих себя додумали за другие народы. А это неправильно. И — несправедливо.
— Послушайте, Совримович! — Тюрберт опять скривился, и опять в его тоне зазвучала некоторая сварливость. — Не раздувайте вы свою драгоценную совесть до вселенских размеров. В конечном итоге существует долг, существует честь, существует отечество — что еще нужно, чтобы всегда остаться правым?
— Существует, вероятно, нечто большее, чем личная честь и личный долг, Тюрберт. Вероятно, существует, только мы этого пока понять не можем.
— Ну и слава богу! Излишние представления обременительны для нашей с вами профессии.
— А ведь Медведовский и в самом деле повесит пленного, — вдруг тихо сказал Гавриил. — Повесит, а мы всю жизнь…
Он замолчал, так и не договорив. Совримович сокрушенно вздохнул, а Тюрберт неожиданно зло расхохотался.
— Я к солдатикам, — сказал он, вскакивая. — К солдатушкам — бравым ребятушкам.
— Постойте, — морщась, сказал Олексин. — Пленный — ваш, извольте решать его судьбу.
— Нет уж, увольте! — Тюрберт развел руками и картинно поклонился. — Во-первых, ссадил его ваш денщик, стало быть, вам приз и принадлежит. А во-вторых, господа соотечественники, ваших людей он не убивал, вашей жизни не угрожал — вам, знаете ли, как-то проще проявлять нежные чувства. А посему разрешите удалиться для исполнения прямых командирских обязанностей. Вернусь через час, надеюсь, что к этому времени вы кончите страдать и обстановка прояснится.
Тюрберт еще раз церемонно поклонился и ушел. Офицеры молчали, старательно не глядя друг на друга. Ислам-бек, слышавший весь разговор — Тюрберт либо не умел, либо не желал говорить тихо, — сидел в прежней неподвижности, словно все это его не касалось.
— Все-таки этот ваш московский приятель — отменный наглец, — сердито сказал Совримович. — Он, видите ли, явится через час!
— Что вы скажете, Совримович, если я отпущу бека на все четыре стороны? — спросил Олексин, упорно разглядывая папиросу. — Что вы молчите? Я исхожу из боевой обстановки: пока мы его не отпустим, черкесы не уйдут, а, напротив, ночью повторят атаку. Об этом никто не думает, а это и есть главное.
— Я не судья вам, Олексин, — сказал, помолчав, Совримович.
1
Тетушка Софья Гавриловна выполнила данную себе самой торжественную клятву. Никому ничего не объясняя, вдруг укатила восвояси, но вскоре вернулась в Смоленск в сопровождении сундуков, любимой болонки и шепотливой старушки наперсницы Ксении Николаевны. К этому времени Варя привезла детей из Высокого, и привыкший к тишине и безлюдью смоленский дом зажил жизнью шумной, суетливой и энергичной, поскольку энергию эту излучала почтенная Софья Гавриловна каждое божье утро:
— Сегодня французский день. Разговоры по-русски запрещены. Даже с прислугой.
— Боюсь, что прислуга не поймет, — пыталась возражать Варя.
— Захочет — поймет: русский человек все понимает, когда захочет. А вы, судари и сударыни, обленились и закоснели и извольте напрячь волю. Маша может музицировать, но не более двух часов, остальное — занятия и занятия. Пора думать о пансионе.
— О пансионе?
Спорить с тетушкой Маша не решалась не из боязни или малодушия — она была человеком прямым, — а из чувства благодарности. Своей неуемной деятельностью, затратой сил, искренностью и заботой Софья Гавриловна обезоруживала спорщиков еще до спора. И Маша плакала по ночам, а днем жаловалась все понимающему Ивану:
— Да что же это творится, Ваня, я даже спорить не могу! Я боюсь неблагодарной оказаться: она ведь от души все, правда? Ну скажи, ведь от души, без хитрости?
— От души, Маша.
— Вот видишь. Как же тут спорить?
Иван молча улыбался. Он стал еще сдержаннее и нелюдимее, увлекся философией, а химию вдруг оставил, но то, чем он увлекался, видели, а что забрасывал, не замечали. Это было по-олексински: гордиться увлечениями и не замечать непостоянства. Они всегда чем-нибудь увлекались, но никогда не доводили до конца своих увлечений, и это было столь естественно для них, что упрись кто-либо в какое-нибудь одно дело и не измени ему — посчитали бы чудаком.
— Рабство благодарности, Маша, есть самое тяжкое рабство, ибо цепи для него человек выковывает сам.
— Оставь свою противную философию!
— А что изменится? Ты сразу сделаешься неблагодарной?