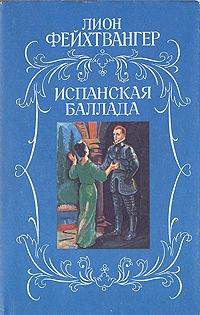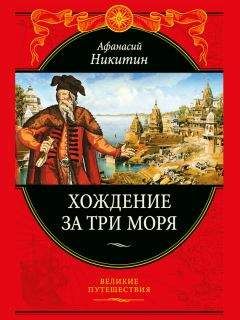Король в досаде поспешил отпустить своего друга и советчика. Всякий раз он натыкается на то же препятствие. Разумеется, Манрике прав, разумеется, начать войну можно, только выяснив отношения с Арагоном. Надо точно договориться обо всем и заключить союз, но достичь этого способен только один человек на свете — донья Леонор.
Что ж, он поедет в Бургос.
Сколько времени он не виделся с Леонор? Целую вечность. Она посылала ему короткие учтивые письма, он через большие промежутки отвечал так же коротко и учтиво. Он ясно представлял себе их встречу. Он будет разыгрывать весельчака, она будет отвечать приветливой, несколько принужденной улыбкой. Нерадостное это выйдет свидание.
Он постарается объяснить ей все происшедшее. Но где найти слова, чтобы другой человек понял, как это страшно и прекрасно, когда на тебя накатывает такая огромная волна, и швыряет в бездну, и возносит ввысь, и снова вниз, и снова ввысь?
В разговоре с Родриго он заносчиво и упрямо отстаивал свое право на Ракель и на страсть к ней, и священник при всем своем благочестии понял его. Но Леонор, сдержанная, благосклонная, истая знатная дама, не может его понять. Перед ней он потеряет дар речи, и что он ни скажет, все будет звучать, как жалкая попытка глупого мальчугана во что бы то ни стало оправдаться. Это будет самое жестокое унижение в его жизни.
Король не имеет права так унижаться ни перед кем на свете, и нет ничего на свете, что стоило бы такого унижения.
Неправда. Есть, есть такое блаженство, которое стоит любого унижения и в придачу вечных мук.
И сразу вновь всплывает Галиана в её нечестивом ореоле. Он чувствует вновь, как прижимается к нему Ракель, чувствует её нежное, упоительное прикосновение, чувствует, как пульсирует её кровь и бьется сердце. Он запускает пальцы в её волосы, теребит их, пока она не скажет, смеясь: «Не надо, Альфонсо, мне больно, Альфонсо». Кто еще умеет так забавно, по-своему и так убедительно сказать «Альфонсо», что от одного этого слова и смеяться хочется, и пробирает дрожь? Он видит её глаза цвета голубиного крыла, видит, как они меркнут, как медленно опускаются на них тяжелые веки и поднимаются снова.
Ему вспомнились арабские стихи, которые она однажды дала ему прочесть:
«Часто слышал я свист стрел над моей головой и не дрогнул ни разу; но когда я слышу шелест её платья, трепет проходит у меня по всему телу. Часто слышал я трубы наступающего врага, но оставался холоден телом и душой; когда же я слышу её голос, всего меня обдает жаром.».
Тогда эти стихи вызвали у него досаду; не смеет рыцарь доходить до такого раболепства. Но они были истинны, эти нежные и раболепные стихи, истинны, как само Евангелие. Его обдавало жаром, едва он представлял себе Ракель. Как мог он даже помыслить о том, чтобы покинуть Ракель, свою Ракель, блаженный и греховный смысл своей жизни?
Он должен вернуть себе Ракель, должен помириться с ней. А это возможно только одним путем. Он тяжело перевел дух. Ничего не поделаешь. Другого пути нет.
Он послал за Иегудой.
Дон Иегуда был не из трусливых, но его охватил страх, когда глубокой ночью к нему в полном смятении прибежала Ракель.
— Он оскорбил меня так, как никогда не оскорбляли женщину, — сказала она.
Иегуде не терпелось узнать, что случилось. Но он сдержался. Разбудил Мусу, попросил его приготовить сильнодействующее успокоительное питье и сказал:
— Ляг, усни, дочь моя, завтра проснешься здоровой.
Оставшись один, он лихорадочно пытался представить себе, что же такое могло произойти. Должно быть, она попросила приюта для франкских евреев. А Иегуда по опыту знал, как жестоко и вероломно умеет этот человек оскорблять, когда бывает раздражен. Ракель не стерпела обиды, она убежала, а человек этот мстителен, он сорвет свою злобу и на нем, Иегуде, и на всех евреях. И Ракель, и он сам напрасно принесли такую жертву.
Он старался успокоиться, но уснуть не мог. Нельзя допустить, чтобы все пошло прахом, надо найти лазейку для надежды. Он ломал себе голову, отыскивая, за что бы ухватиться. Этот христианский король вечно толкует о чести, но о собственном достоинстве понятия не имеет, Уже два раза, обругав и оплевав Иегуду, он вдруг понимал, что нуждается в нем, и спешил опять к нему подладиться. Ракель он любит, жить без неё не может, значит, и к ней будет опять подлаживаться, будет клянчить, чтобы она вернулась.
Это было утро пятого тишри. Меньше чем через три недели истекал срок, назначенный Иегудой для исполнения обета. В эту первую бессонную ночь он понял, что много у него еще будет бессонных ночей, много раз будет он падать в бездну отчаяния и выбираться из нее, цепляясь за надежды и хитроумные домыслы.
Так обстояло дело с Иегудой Ибн Эзра. А с тобой-то что, Ракель? Ты бродишь бледная, молчаливая, тщетно ждешь весточки. Ты видишь озабоченные, нежные взгляды отца, но они не греют и не утешают тебя. Ты слышишь слезливые причитания кормилицы — увы, её ладанка, «рука Фатимы», ничему не помогла, — и все её уговоры скользят мимо тебя. Ты воскрешаешь в памяти его лицо, осанку и повадку в те лучшие часы знойной страсти, когда сливались воедино души и тела. Но этот образ вытесняется другим, и ты видишь перед собой изуродованные похотью черты насильника. Вот, значит, каков лик рыцарства, столь пленительный для него! Но, несмотря ни на что, ты тоскуешь о нем и знаешь твердо — стоит ему только позвать, и ты пойдешь, побежишь к нему.
Проходили дни. Дон Альфонсо был в Толедо, но не посылал ни за ней, ни за Иегудой. Только дон Манрике являлся с вопросами, необходимыми для ведения государственных дел.
Наступил священнейший для евреев день-день очищения, йом кипур. Иегуда, удивительный, многоликий Иегуда, словно переродился в этот день. Он отбросил всякое мелочное тщеславие, признался себе, что его «высокое назначение» было лишь личиной властолюбия, и воистину стал сокрушенным, жалким, грешным человеком перед лицом Божиим; чем высокомернее был он раньше, тем приниженнее стал теперь. Он бил себя в грудь и со жгучим стыдом взывал к богу:
— Я согрешил головой своей, надменно и дерзко поднимая ее. Я согрешил глазами своими, глядевшими нагло и заносчиво. Я согрешил сердцем своим, преисполненным гордыни. Я признаю, и сознаю, и каюсь. Помилуй меня, господи, дай мне искупить мой грех.
Теперь он не только разумом, но всем существом своим готов был принять любую кару.
Когда два дня спустя король призвал его к себе, он ни на что не надеялся и ничего не страшился. Добро ли, зло ли — будь благословенно, — так мысленно твердил он по дороге в замок и так думал на самом деле.
Альфонсо держался надменно и смущенно. Он долго распространялся о малозначащих делах, как-то: о препонах, чинимых баронами де Аренас, и о том, что он не намерен терпеть это далее. Пускай Иегуда вдвое против прежнего сократит им срок, и если они не соизволят уплатить, он, Альфонсо, силой займет спорное селение.
— Я в точности исполню приказ твоего величества, — с поклоном ответил Иегуда.
Альфонсо лег на свою походную кровать, скрестил руки под головой и спросил:
— А как обстоит дело с моими военными планами? Ты все еще не нагреб достаточно денег?
— Договорись с Арагоном, государь, а тогда можешь выступать, — деловым тоном ответил Иегуда.
— Заладил одно и то же, — проворчал Альфонсо и, привстав, без всякого перехода, спросил:
— А что слышно о евреях, которых ты хочешь навязать мне? Постарайся говорить по-честному, не как их брат, а как мой советник. Будут у моих подданных основания упрекать меня: что, мол, делает этот король — в самый разгар священной войны впускает в страну тысячи нищих евреев?
Скорбная самоотверженная покорность Иегуды мигом сменилась буйным ликованием.
— Никто не скажет ничего подобного, государь, — ответил он, снова став прежним Иегудой, почтительным, уверенным в себе и в своем превосходстве. — Я бы не осмелился просить тебя, чтобы ты допустил к себе в страну нищих. Наоборот, я думал всеподданнейше предложить тебе, чтобы через границу пускали только тех беженцев, у которых окажется в наличности, скажем, не менее четырех золотых мараведи. Новые поселенцы будут не жалкими бедняками, а людьми положительными, сведущими в торговле и ремеслах, и обогатят казну немалыми налогами.
Альфонсо только того и ждал, чтобы его уговорили, а потому спросил:
— Как по-твоему, можно это втолковать моим грандам и моему народу?
— Не знаю, как грандам, а народу, безусловно, можно. Твои кастильцы на деле почувствуют приток средств, им привольнее станет жить, — ответил Иегуда.
Король рассмеялся.
— Ты, по своему обыкновению, преувеличиваешь. Ну, да я к этому привык, заметил он и будто вскользь бросил: — Так вели изготовить указ. — Иегуда низко поклонился, коснувшись рукой земли.
Он не успел еще выпрямиться, как король добавил: