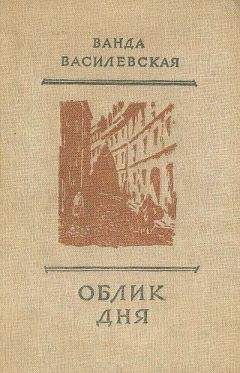— Да не знаю, право… Я не считал. Не то семь, не то восемь.
— А не шесть?
— Может, шесть… Не помню…
Брат Михаил еще некоторое время ссорится с ксендзом-настоятелем, наконец они устанавливают, что телег было семь. Анатоль уходит. Страшная тяжесть сваливается с его сердца.
Крестьянин расплачивается добросовестно; по пути в школу Анатоль ежедневно получает полбуханки. Набивает рот кислым черным хлебом, с наслаждением глотает огромные куски или долго, вдумчиво жует. Хоть раз, хоть ненадолго желудок полон. Не сосет под ложечкой, не тошнит, рот не наполняется голодной слюной, челюсти не сжимаются в болезненной судороге. Сытость! Хоть раз, один-единственный разок наесться так, чтобы уж больше и не хотелось.
В погребе — картошка и какая-то особенная, выписанная для посадки морковь. Анатоль отрывает скобу. Ребята предусмотрительны. Каждый день понемножку, чтобы хватило на дольше. И каждый раз скобу приколачивают камнем на место. Огромный замок тяжело висит на ней, гарантируя сохранность. А в поддувале печки печется картошка, и морковь хрустит на зубах под прикрытием ночного мрака и тонких одеял.
На третьем этаже, в угловой комнате — кладовая. Отсюда снабжается стол ксендза-настоятеля, панны Мелании, приезжающих гостей. На колышках висит колбаса. Стоят коробки консервов, банки маринадов, мешки сушеных фруктов. Двери заперты на замок, на колодку, на тяжелые засовы. Анатоль взбирается по водосточной трубе. Окно легко поддается. Вниз, в подставленные руки, летят круги колбас, град фруктов, тяжело падают коробки консервов. Маленький Адам объедается до того, что с ним делаются судороги. В течение двух дней и двух ночей он с посиневшим лицом извивается, как червяк на крючке, его крик, наверно, и в деревне слышен. Брат Михаил приходит в спальню, чтобы дать ему отвар из трав и несколько плетей, уж очень он орет. Несмотря на все, Адам не умирает. Он бродит как тень с совершенно прозрачным лицом. Но ни о чем не жалеет. Хоть раз в жизни нажрался человек.
В один прекрасный день Анатоль добирается до библиотеки. Читает о том, как императоры воевали с папами. Читает о гуситах, которые ненавидели ксендзов. Об инквизиции. И еще всякую всячину.
Постепенно весь класс начинает делиться добычей. Читают все, даже этот вечно заспанный Генек. Ну и дела! Ну и попики были! Хо-хо! Теперь, глядя на: ксендза-настоятеля, они вспоминают все, что Лютер — был такой немец — рассказывает о монастырях. Хихикают по углам при виде торопливо семенящей за ксендзом панны Мелании.
Брат Михаил может теперь спокойно дремать на послеобеденных уроках. Царит мертвая тишина. Раздается лишь шелест переворачиваемых страниц.
Но спустя некоторое время эта тишина начинает его беспокоить. Он притворяется, будто спит. Сквозь прищуренные веки пристально следит за классом.
— Всем выйти из-за парт! — как гром с ясного неба, раздается вдруг.
Разумеется. Под партами история папства, религиозные споры, редкостные издания, долгие годы хранившиеся в монастырской библиотеке.
— Кто?
Пока виновник не обнаружится, все заведение остается без ужина. На длинном столе трапезной дымятся тарелки. Благоухают никогда раньше не виданные здесь шкварки. Хлеб белый и свежий.
— Благослови, господи, сии дары твои…
И тотчас:
— Кто?
Над запахом подрумянившихся шкварок гробовое молчание.
— В спальную!
И так в течение трех дней. Потом объявляют:
— Если виновник не будет обнаружен и дальше, все воспитанники лишаются и обеда.
Большие куски мяса плавают в супе. Золотистые кружочки жира оседают на краях тарелок.
— Благослови, господи, сии дары твои… — и снова:
— Кто?
Сорок пар глаз смотрят на отливающий жиром, золотистый суп в тарелках. Сорок пар ноздрей раздвигаются от вожделения. Сорок глоток шумно, мучительно глотают слюну.
Анатоль медленно встает. Голубыми глазами смотрит в грубо вытесанное лицо брата Михаила.
— Это я.
И опять плети, опять молитва, опять пост.
Но вот однажды он снова в лесу, лежит на небольшой полянке. Он уже сдал свою порцию черники. Солнечные полосы лежат на опавшей хвое. Два жучка. Маленький и побольше. Тот, который побольше, воинственно вытягивает забавные серповидные клещи. Маленький отступает, извиваясь, словно пытается рассмешить, умолить врага.
Анатоль встает. Его красивый рот сжимается в узкую, жесткую линию. Стоптанным каблуком он давит того, который побольше.
— Чтобы не нападал на слабых.
Потом с еще большим ожесточением — того маленького:
— Чтобы не был трусом!
В этот вечер Анатоль бежит из заведения. На этот раз его уже не могут поймать — ни на станции, ни в других местах. Как камень в воду.
Но остаются другие Анатоли, Вицеки, Юзеки и Франеки, или как их там еще окрестили. Остаются среди шепота молитв, свиста плетей и смрада комнаты для «сикунов».
И так долгие, долгие годы.
Надо как-то помочь семье. Не тем, чтобы подметать, топить печки, качать ребенка. Не тем, чтобы мыть полы, чистить песком посуду и стирать тряпье. Надо помочь по-настоящему — приносить домой деньги. Хоть гроши какие-нибудь. Ведь ему уже восемь, десять, двенадцать лет — давно пора зарабатывать на жизнь. И Виктор, Генек, Стефан, Наталка, или как их там еще, идут торговать.
— Эээкстренный! Вы-пуск! Ужасное преступление в…!
— Труп без головы в саквояже!
— Беспорядки в…!
— Экстре-еенный вы-ы…! Смертный приговор шпиону!
Газеты. Рано утром, как только рассветет. В полдень. Вечером перед пылающими огнями кафе. В дождь. В холод. В зной. Газеты.
— Свежие! Свежие! Свежие! Пять грошей пара!
— За пять пара! За пять пара!
Баранки. На перекрестке улиц. С рассвета до поздней ночи. В дождь. В мороз. В зной. Баранки.
— Зеркальца шлифованные!
— Сливочная карамель! Сливочная карамель!
— Ваше сиятельство, купите госпоже графине фиалочки! Вон какие хорошие, свеженькие!
— Господин советник, купите сиятельной княжне ландыши! Один букетик!
— Розы! Гвоздики! Левкои! Ваше сиятельство, господин граф! Господин советник! Господин доктор!
С рассвета до поздней ночи. Громко, громко, во весь голос. Льстиво, остроумно, со злобой, со слезами. Перед магазином, перед дансингом, на стоянке автобусов, в парке, у театра, у кино, у цирка, на площадях. Особенно на одной площади.
Нужно пробраться по извилистым, немыслимо грязным уличкам, полным шума, крика, суеты. И, наконец, площадь — большая, широкая, битком набитая народом.
— Дамочка, дамочка, не купите ли шарфик? Хороший, совсем еще новый шарфик!
— Баранки! Пять грошей пара.
— Ботинки! Ботинки! Шикарные ботинки!
— Кто купит шубку? Настоящий бобер, чтоб я так здоров был, настоящий бобер!
Вдоль тротуара шеренга женщин. Эти молчат. Видимо, впервые здесь. Бледные, увядшие лица, потухшие глаза. Каждая держит что-нибудь в руках. В их глазах, окаймленных синими кругами, странное, скорбное выражение ожидания и вместе с тем полной безнадежности.
Дырявый детский свитерок. Мужская сорочка с вырванной у шеи обшивкой. Платье из расползающегося по всем швам шелка. Два цветных носовых платка со следами крови. Много раз штопанные бумажные чулки.
Руки продавщиц крепко сжимают продаваемые вещи. Глаза, изверившиеся во всем, мертво глядят на толпу.
— Покажите-ка эти штаны.
Неопределенного цвета отрепье с огромными светло-серыми заплатами сзади и на коленях.
— Старье…
— Да вы взгляните только, совсем хорошие штаны, дыр нет, аккуратно подшиты.
Покупательница берет товар, долго вертит его в руках. В глазах старой женщины загорается огонек надежды.
— Вы только попробуйте, материал еще долго проносится, совсем хорошие штаны.
С другого конца площади доносятся звуки патефона. «Вспомни обо мне…» — сентиментально хрипит старая пластинка.
На развалине детской коляски устроено нечто вроде прилавка. Дребезжащий граммофон скалит на публику облупившуюся пасть трубы. Рядом лежит груда пластинок.
— Почем?
— По восемьдесят грошей. Вальсы, танго, фокстроты. Можно сейчас попробовать, — тихо отвечает бледный мальчик.
— Дорого.
— Недорого, господин, пластинки-то какие!
— Сюда! Сюда! Самые модные боевики, только по злотому! Каждая пластинка всего злотый! — фальцетом кричит молодой еврей со впалой грудью.
Рядом останавливается старый, сгорбленный человек. Глаза Обведены красной каймой. В дрожащих руках истрепанная, облысевшая кисточка для бритья.
— Слушайте, кто же это купит?
— Купят, купят, почему не купить? Совсем еще хорошая кисточка, — старческий голос вздрагивает. — Совсем хорошая кисточка. Грошей хоть десять дадут.
— Книжка?
— Да, вот… — прилично одетый господин, видимо, чувствует себя неловко.