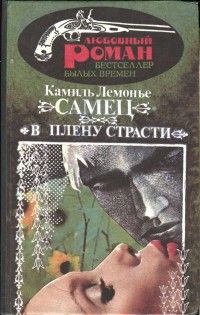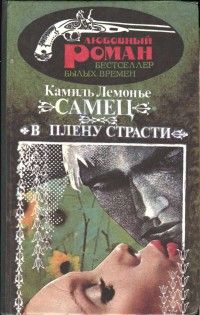Но с течением времени изменилась и сама вера. На смену дикой вере варвара-героя, упований в чудеса, нерушимой надежды на милость провидения пришли холодные и точные расчеты, властные требования выгоды, головокружительное тщеславие. В то время как первые Рассанфоссы, прокладывая пути, не щадили своего благополучия и платили за все жизнью, потомкам их выпало на долю только умножать богатства, добытые потом и кровью предков. Господь, светивший истым христианам в кромешной тьме, остался неведомым для сердец, утративших блаженную простоту.
Колонизация стала играть на руку разного рода пройдохам и пустозвонам. Дело это, дискредитированное окружавшим его со всех сторон обманом, начало служить интересам определенной партии и биржевой игре и превратилось в какую-то темную, подозрительную аферу. Это было находкой для мошенников из числа ученых доктринеров, для негодяев, облеченных доверием общества, для всей огромной озверелой толпы, которая вместе с консервативной партией устремилась в погоню за новыми должностями и новыми доходами. Жан-Элуа, выросший в религиозной семье, а потом, в силу какой-то лености ума, ставший скептиком и вольтерьянцем, неожиданно превратился в сторонника правительства.
Ему показалось, что пришедшее к власти после периодов господства реакции министерство Сикста, буржуазное, капиталистическое, отмеченное чертами сухого рационализма, полностью соответствует его политическим идеалам.
Но в новом режиме больше всего по душе ему пришлись неприкрытое презрение к плебсу, из которого вышли все эти буржуа, панический ужас перед надвигающимся социализмом и то тупое упорство, с которым этот режим стремился подавить все посягательства пролетариата на незыблемые устои собственности. Для него, отпрыска безликих и безымянных людей, потомка запыленных, зарывшихся в землю углекопов, все это казалось надежнейшею гарантией благополучия.
То же самое происходило и со всеми Рассанфоссами: воспоминание об их прошлом свято чтилось в первом поколении, представительницей которого была благочестивая Барбара, дочь народа и жена такого же, как она сама, простолюдина. А потом эти воспоминания постепенно начинали стираться. Благоговейное почитание отца их рода, того царственного предка, которому поклонялся Жан-Кретьен V, уступило теперь место забвению. И только одна старуха бабка говорила о нем как о короле Барбароссе, который жил вечно и продолжал царить над обителью мертвых, восседая на своем мраморном троне. Но разве он не должен был воскресать каждый раз в своих потомках? Разве он не был стволом, а они — ветвями, которые должны были расти в веках? Культ предков кончился со смертью Жана-Кретьена V, который и сам освободился уже от наследственных повинностей, как только, сделавшись хозяином огромных угольных копей, он начал подниматься все выше и выше.
Жан-Элуа, сумев ловким маневром возглавить банк и приобрести расположение правительства, стал полноправным главою семьи. Заселение этих земель заинтересовало Жана-Оноре и Кадрана, они скупили часть акций. Что же касается Барбары, то едва только она узнала политическую подоплеку Колонизации — предприятия, занимаясь которым, люди теряли совесть, — она написала ему:
«Надежды мои не оправдались, Господь оставил тебя. Отец твой и дед не делали в жизни ни шага без его благословения. Нарушая божью волю, ты забываешь, что его щедротам Рассанфоссы обязаны всем своим состоянием. («Маменька уже заговаривается», — подумал он.) Это божьи деньги, и заработаны они истыми христианами. Я не стану покупать ваших акций».
После всех трудностей, которые потребовалось преодолеть, чтобы пустить дело в ход, Жан-Элуа стал гордиться тем, что сумел окончательно утвердить владычество Рассанфоссов.
В течение двух недель он усердно трудился, приходил первым в контору, посылал телеграммы, составлял письма, вскрывал почту, проверял огромные счета, над которыми приходилось подолгу биться его служащим. Радостное возбуждение, которое он умел скрывать в их присутствии, прорывалось только вечерами, когда он приходил домой, чтобы отдохнуть, и оставался с глазу на глаз с женой.
Он дважды был женат, и обе женитьбы его, между которыми прошло не слишком много времени, свидетельствовали о точном расчете этого прирожденного дельца. Женившись сначала на одной, а потом на другой дочери крупного фабриканта крахмала Пирсона, он сосредоточил в своих руках все капиталы этой богатой фирмы.
В их грузном, роскошно отделанном особняке на улице Луа весь второй этаж был отведен сыновьям — Арнольду и Ренье, и дочерям — Гислене и Симоне.
Имена, которыми Рассанфоссы нарекали своих детей, изменялись с изменением общественного положения отцов. На место грубых, простонародных имен, дававшихся в память древних героев, в календарях нашлись имена утонченные и гораздо более благозвучные.
После всех неудач, раз и навсегда преградивших ему путь к дипломатической карьере, Арнольд начал вести праздную жизнь, развлекаясь охотой, объездкой лошадей и столярным ремеслом. Крупный, толстый, коренастый, и фигурой и лицом похожий на гориллу, пристрастившийся к ничегонеделанью, он телосложением, необузданной силой и страстью к физическому труду напоминал своего деда Жана-Кретьена, дородного силача, который, спустившись в недра «Горемычной», свободно справлялся там один с работою троих углекопов. В светском обществе Арнольду всегда становилось не по себе; в опере он обыкновенно засыпал; ему бывало тесно во фраке, который трещал по всем швам на его широких плечах. Он любил на целые месяцы уезжать в принадлежавшее Рассанфоссам поместье Ампуаньи, где никого не видел, кроме своих садовников, двоих егерей и конюха, который ухаживал за его лошадьми, где пищей ему служила только убитая на охоте дичь и печеный в золе картофель и где он проводил время, строгая доски и делая ежедневно по восемь лье верхом.
Этот мужлан, которому в городе всегда бывало скучно, по-настоящему веселился только в компании деревенских парней, постоянных товарищей его забав.
Он даже возглавил сельский духовой оркестр и охотно играл с крестьянами в кегли. По временам, однако, в нем пробуждалась природная гордыня Рассанфоссов, и за обыкновенной попойкой он мог вдруг рассвирепеть. Тогда он кидался на тех же крестьян с кулаками, вымещая этим все свое презрение к ним, подобно феодалу былых времен, убежденный в том, что эти жалкие твари зависят от его милости и обязаны трудиться на него по гроб.
Ренье, этот скептик по натуре, этот изысканно-развращенный горбун, элегантный и порочный, с язвительною улыбкой на тонких губах, с похожими на кавычки белокурыми усиками, которые он разглаживал своими длинными пальцами с синеватыми ногтями, не хотел иметь ничего общего со всей остальной семьей. И только Симона, в противовес высокой темноволосой Гислене и грубому Арнольду, бледная и страдающая Симона, эта хрупкая и тонкая девочка с глубокими серыми глазами, задумчивыми и в то же время лукавыми, своей болезненной чувствительностью напоминавшая маленькую обезьянку, — только она одна и характером своим и своей печальной участью была похожа на брата. Оба они олицетворяли собою какую-то извращенность, крайнюю степень бессилия и вырождения, наступившую после той огромной затраты мозговой энергии и мускульной силы, которыми менее чем за полвека род Рассанфоссов добился неслыханного могущества. Это был тот мутный осадок, который после всей перегонки отстоялся в утробных колбах; он свидетельствовал о том, что могучие соки, дававшие некогда силу этому роду тружеников-землероек, иссякли. Оба они были зачаты с прихотливою осмотрительностью и выращены заботливо и неторопливо, в противовес их предкам, неотесанным плебеям, вызванным к жизни слепыми рывками плоти. И теперь эти последние отпрыски рода, казалось, обличали своею немощью всю порочность и гибельность нового уклада жизни.
Что касается Ренье, то он был примером того, как физическая сила предков становится силою интеллекта и отлагается в извилинах мозга.
В этом молодом и в то же время злобном хищнике кипела какая-то всесокрушающая энергия.
— Я — как винный осадок на дне старой бочки, — говорил он сам про себя.
Временами он предавался разгулу с такой исступленностью, которой не выдержал бы и бык. Он примкнул к веселой компании молодых кутил. Это были сынки богатых родителей; они проматывали отцовские состояния и перекладывали доставшееся им наследство в карманы ростовщиков. Завсегдатаи ночных ресторанов, они зазывали туда проституток, избивали на улице запоздалых прохожих. Именно Ренье пришло в голову как-то раз после костюмированного бала привезти в один из своих коттеджей десять женщин, десять жалких уличных красоток, разодетых в пестрые лоскутья и полупьяных. Этих хилых кукол, предназначенных удовлетворять плоть пресытившихся, сладострастных буржуа, накормили и напоили до беспамятства и раздели потом донага… Кончилось тем, что девок этих совершенно голыми выбросили на улицу, где на рассвете их сразу же подобрала полиция. Это он во время одной из ночных оргий проповедовал нелепое учение Мальтуса и учредил клуб, целью которого было дать возможность забеременеть всем девушкам, которые этого хотели. Идея его заключалась в том, чтобы люди до того размножились, что были бы вынуждены поедать друг друга. «Будем производить на свет детей, будем умножать бесчинства и преступления, с тем чтобы люди превратились в тигров и в волков, чтобы им стало тесно на земле и мир погиб. Тогда все изменится; братья, устав от споров из-за травинки, которой им все равно не прокормиться, изголодавшиеся, превратившиеся в кровожадных зверей, уничтожат друг друга. А так как истинное счастье заключается в небытии, то в этот день всем бедствиям людей настанет конец».