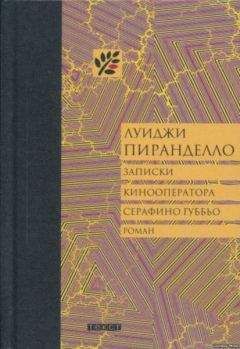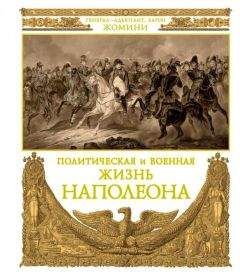Чезарино остался в темной столовой, за дверью, дрожа от безумного порыва, на который его, застенчивого и слабого от природы, толкнули злоба, позор и боязнь лишиться обожаемого малыша. Немного придя в себя, он постучал в дверь к Розе, которая заперлась на ключ, прижимая к себе мальчика.
– Я поняла! Поняла! – ответила Роза. – Он хотел Нинни.
– Он?
– Да. И понимаешь, права, свои права он собирается доказывать.
– Он? Да кто же признает его права?
– Он отец.
– Неужели он может отнять у меня Нинни? Я прогнал его, как собаку! Я сказал ему, что он… что он убил мою мать… и что я приютил ребенка… и что теперь он мой, мой!.. Никто не вырвет его из моих рук! Мой! Мой!.. Погоди… негодяй… убий… убийца…
– Ну, да! Конечно! Успокойтесь, синьорино! – сказала ему Роза, еще более опечаленная и удрученная, чем он. – Он только силой может взять у вас ребенка. Вы тоже сумеете доказать свои права. И хотела бы я видеть, как у нас отберут теперь Нинни, ведь это мы его воспитали. Но успокойтесь, успокойтесь, он больше не придет после достойного приема, который вы ему оказали.
Напрасно добрая старушка целый вечер повторяла свои увещания, ничто не могло успокоить Чезарино. Следующий день в министерстве был для него подлинной нескончаемой пыткой. В полдень, дрожа и задыхаясь, он прибежал домой. В три часа он не хотел возвращаться на службу, но Роза уговорила его, пообещав держать дверь на запоре, никому не открывать и ни на минутку не оставлять Нинни одного. Тогда он ушел, но вернулся домой в шесть часов, не заходя в колледж, где его ждали ученики.
Видя его подавленным, ошеломленным и угнетенным, Роза всячески пыталась его отвлечь. Но тщетно. Душу Чезарино грызло предчувствие, не дававшее ему покоя. Всю ночь он не спал.
На следующий день в полдень он не пришел обедать. Старая Роза не знала, как объяснить это опоздание. Наконец к четырем часам он пришел бледный, тяжело дыша, взгляд его был странно неподвижен.
– Я должен отдать ребенка. Меня вызывали в квестуру. Он тоже был там. Он показал письма моей матери. Это его ребенок.
Он сказал это прерывающимся голосом, не глядя на ребенка, которого Роза держала на руках.
– О, сердце мое! – воскликнула та, прижимая Нинни к груди. – Как же так? Что он сказал? Как мог суд?…
– Он отец! Он отец! – ответил Чезарино. – И поэтому ребенок его.
– А вы? – спросила Роза. – Вы что будете делать?
– Я? Я с ним, мы уйдем туда вместе.
– С Нинни, к нему?
– К нему.
– Ах, так?… Значит, оба вместе! Ну, что же, отлично! Вы не покинете его… А я, синьорино? Ваша бедная Роза?
Чезарино, чтобы не отвечать ей прямо, взял малыша на руки, прижал к груди и со слезами стал ему говорить:
– Бедная Роза, а, Нинни? Взять ее с нами? Это несправедливо! Этого нельзя! Мы все оставим бедной Розе. Все то немногое, что здесь есть. Нам было так хорошо втроем, ведь правда, мой Нинни? Но они не захотели… не захотели…
– Ну, вот, – сказала Роза, глотая слезы. – Неужели вы теперь будете убиваться из-за меня, синьорино? Я стара, я в счет не иду, господь обо мне позаботится. Лишь бы вы были счастливы… А скажите, разве я не могу приходить к вам повидаться с моим ангелочком? Не прогонят же меня, если я приду. В конце концов, почему бы мне не приходить? Со временем так, может быть, и лучше для вас будет, синьорино, как вам кажется?
– Может быть, – сказал Чезарино, – а пока, Роза, приготовь все, скорее… все, что мы сшили Нинни, все мои вещи и твои также. Мы уедем сегодня вечером. Нас ждут к обеду. Ты слышишь: я все оставляю тебе…
– Что вы говорите, мой синьорино! – воскликнула Роза.
– Все… все то немногое, что у меня есть… до последнего гроша. Я тебе гораздо больше должен за все твои заботы… Молчи, молчи. Не будем говорить об этом. Ты это знаешь, и я знаю. И довольно. И эту мебель тоже… Там у нас будет другой дом. А с этим делай что хочешь. Не благодари меня. Приготовь все, и пойдем. Сначала ты. Я не смогу уйти, если ты останешься здесь. А завтра ты придешь ко мне, я дам тебе ключ и все остальное.
Старая Роза молча повиновалась. У нее было так тяжело на сердце, что если бы она открыла рот, чтобы заговорить, то, наверное, вырвались бы рыдания, а не слова.
Она собрала вещи, потом и свой узелок.
– Можно мне оставить это здесь? – спросила она. – Ведь завтра я вернусь…
– Да, конечно, – отвечал Чезарино, – а теперь поцелуй Нинни… Поцелуй его, и прощай.
Роза взяла на руки ребенка, посмотревшего на нее с каким-то испугом, но не сразу смогла заставить себя поцеловать его, потом перевела дух и сказала:
– Глупо плакать… ведь завтра… Вот, синьорино… возьмите его… и мужайтесь, право! И вас тоже я поцелую… До завтра!
Она ушла, не оборачиваясь, стараясь платком заглушить рыдания.
Чезарино тотчас же запер дверь. Он провел рукой по своим прямым, жестким волосам. Положил Нинни на кровать, сунул ему в руку серебряные часики, чтобы он лежал тихо. Торопливо написал несколько строчек на листке бумаги: он оставлял Розе всю убогую обстановку. Потом побежал на кухню, быстро развел огонь в очаге, принес его в комнату, запер ставни, дверь и при свете лампадки, которую старая Роза всегда зажигала перед образом мадонны, лег на кровать рядом с Нинни. Ребенок тотчас же выронил часы на постель и, как всегда, поднял руку, чтобы стащить очки с носа у брата. Чезарино на этот раз не сопротивлялся; он закрыл глаза и прижал ребенка к себе.
– Тише, Нинни, тише… Будем спать, красавчик мой, будем спать.