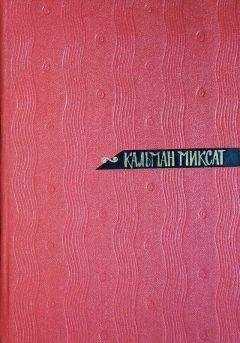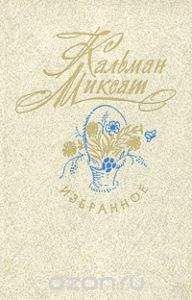О, боже! Возможно ли? Гёргей даже вскрикнул, но тут же принялся искать ответ: возможно ли?
Ну, а почему, собственно говоря, невозможно? Янош — человек благороднейшей души, самый примерный брат на всем белом свете. Он и к чужим-то добр, недаром вся округа зовет его "Patronus et pater lutheranorum" [Отец и покровитель лютеран (лат.)]. У Яноша — мягкое сердце, вот он и совершает замечательные поступки. И Мария — достойная его подруга, добрая, высокая натура. Мария необыкновенная женщина. Святая! "А теперь допустим, что Розалия умерла. Предположим! — рассуждал сам с собой Пал Гёргей. — Янош и его супруга приходят в отчаянье: что теперь будет с Палом? "Такой удар лишит его рассудка", — думают они. И пока они думали-гадали, как известить меня о случившемся несчастье, прикидывали возможные последствия, Марии — нет, вероятнее всего, Яношу пришла в голову спасительная мысль, и брат воскликнул: "Знаешь, милая Мария, что я придумал? Девочка все равно уже умерла, а вот Пала нам нужно спасти. Душа малютки улетела к родной матушке, зато душа Пала, если он об этом узнает, понесется вовсе не вслед любимой супруге, а скорее всего в царство вечного мрака — безумия. Лучше не говорить ему, что Розалия умерла. Скажем, будто умерла наша Борбала! Ведь мы-то с тобой от этого ничего не потеряем? Борбала останется, как была, живой. Мы сможем по-прежнему любить ее, любоваться ею, глядеть на нее. Только вместо Борбалы ее будут теперь звать Розалией. А может быть, мы когда-нибудь и скажем Палу об этом и возьмем дочь к себе. Время и не такие болезни излечивает. А теперь посмотрим, что выгадает Пал? Без этого обмана — он конченый, пропащий человек.
А благодаря нашей невинной лжи он будет спасен для жизни, для политики, для родины; он снова обретет душевное равновесие, а может быть, еще будет и счастлив. У нас с тобой уже есть две дочери, пусть они взрослые и обе уже замужем — со временем и эта тоже выйдет замуж. Зато детишки наших старших дочек, как только научатся ходить, в нашем же с тобой саду станут резвиться. А бедняга Пал все будет один как перст". Представил себе Пал Гёргей этот разговор, и сразу ему стало понятно, почему Янош и его семейство так спокойно восприняли смерть «дочери» (конечно, не своя ведь) и почему, наоборот, они так любят оставшееся в живых «чужое» дитя (пожилые родители всегда с ума сходят по своим малым детям, куда больше, чем молодые), почему девочка не походит на Каролину и почему в малютке не заговорил загадочный "голос крови" и она знать не хочет отца.
Подозрение развивалось и росло, будто опухоль в мозгу; вначале оно лишь слегка тревожило Пала Гёргея, но постепенно лишило его покоя и сна. Недели две-три спустя он снова отправился в Топорц и с упорством, с азартом сыщика принялся все выпытывать, обхаживать слуг, следить за поведением брата и невестки, придумывая самые хитроумные способы, как узнать что-нибудь определенное; однако с каждым днем история делалась все запутаннее. Бывали минуты, когда он мог разумно объяснить самому себе всю ее подоплеку. "О, господи, какой же я глупец! Да ведь это добрые люди, они для того лелеют девочку, чтобы облегчить боль души моей. Об умершей Борбале они нарочно избегают упоминать, стараются отвлечь меня от печальных мыслей о смерти. Если они не подняли шума вокруг похорон своей дочери, что из этого? Откуда нам знать, много ли, мало ли они печалились на самом деле? Розалия не похожа на Каролину? Так ведь и молодая завязь тоже не походит на зрелое яблоко. А разве она не будет яблоком в конце лета? Нет, нет, глупости вбил я себе в голову!"
Но тщетны были старания Пала Гёргея отогнать терзавшие его призраки: они оставляли несчастного в покое лишь на краткий срок, в снова принимались за свое. Пробовал Пал Гёргей забыть свое горе за чужим: в качестве исправника исколесил все села своего комитата. Оставшееся время проводил на охоте, бродил по лесам и полям — порой до полного изнеможения. Но увы! Ничто не помогало. В конце концов он решил открыться кому-нибудь; если тот, кому он доверится, высмеет и опровергнет его сомнения, — может быть, легче станет. Пал Гёргей уже не верил, что сам он способен трезво судить о жизни, хотя обычно и он, так же как и другие, был высокого мнения о своей рассудительности. Он обладал от природы и умом и наблюдательностью, но знал, что чем умней человек, тем скорее он может оказаться жертвой какой-нибудь навязчивой мысли.
Итак, решено. Но с кем же поделиться своими подозрениями? Выбор его пал на экономку, тетушку Марьяк. Она верная служанка и к тому же видела маленькую Розалию с первых дней ее жизни, не раз помогала купать девочку, пока ее не увезли из дому в Топорц. В Гёргё экономка приехала в свое время, сопровождая Каролину, и поэтому какое-то безотчетное суеверное чувство побуждало его поделиться своими сомнениями с этой женщиной: тогда как бы незримые нити протянутся от него к самой Каролине.
Как-то раз, когда член суда Иштван Ролли отсутствовал и Пал Гёргей обедал один, он подозвал к себе хлопотавшую возле поставца с посудой экономку и спросил:
— А скажите, тетушка Марьяк, на кого похожа наша маленькая Розика?
— На кого же еще, как не на свою матушку? — ответила экономка, несколько удивившись вопросу. — Или нет?
— Я, по крайней мере, не смог обнаружить такого сходства, — со вздохом продолжал исправник.
Тетушка Марьяк пожала плечами.
— Никакого сходства! Никакого! — продолжал жаловаться Гёргей. — Ну, разве не странно?
— Странно? А что ж тут странного? Если и есть что-нибудь странное, то уж совсем не в Розе, нашем милом ангелочке, а в том, что всякий глаз на свой лад видит. Не правда ли?
— Правда, тетушка Марьяк. Но мне все это и в голову бы не пришло, если бы я не знал, что одна из двух малюток умерла. Впрочем, и еще многое другое.
— Другое? А что?
— Сами знаете: человеку всякое в голову лезет, когда он страдает бессонницей. Например, уж не подменили ли нам по ошибке девочку?
Экономка ухватилась за эту мысль подобно тому, как змея хватает пролетающего мимо крупного жука. За хорошую сплетню тетушка Марьяк готова была хоть жизнь отдать, хлебом ее не корми — дай только пронюхать о чем-нибудь грязненьком, а затем разболтать об этом. А провидение одарило ее удивительно простодушным и добрым лицом, глубоким, честным взглядом и таким тонким умением злословить, что просто невозможно было заподозрить ее в клевете или в злом умысле. Был у нее один излюбленный прием: никогда ничего не утверждать, только спрашивать. Спрашивать, ловко пряча в своих вопросах ядовитые шипы намеков.
— Как вы изволили выразиться, ваше превосходительство? Что, мол, подменили девочку? — переспросила экономка, вытаращив глаза от изумления. — О, боже, боже! Неужели наша Розика на самом деле уже давно подле своей матушки? Господи, отец наш небесный! — Тут Марьяк набожно перекрестилась. — Не введи нас во искушение! Как это так, "подменили"?
— Ну, этого я не утверждаю, — запротестовал Гёргей, — просто мне в голову пришло.
— В голову? — как бы думая вслух, забормотала экономка, доставая салфетки. — До чего ж умная голова у вашего превосходительства! Вот это я понимаю — голова! И почему мне такое никогда не приходит в голову? А ведь я окольно уже слышала о подобных случаях!
И тетушка Марьяк тут же рассказала барину сначала про некоего Остролуцкого, которого тоже подменили когда-то в старину, затем про одну девушку, фамилии которой она уже не помнила, знала только что девушка была графиней и что родители ее жили в Кашше. Вслед за этой историей были извлечены на свет и другие случаи подмены младенцев, хранившиеся до поры, до времени вместе со всяким прочим хламом, словно в сорочьем гнезде, в голове экономки.
— Но все эти истории кончались счастливо, — заявила она. — Какое-нибудь родимое пятнышко всегда помогало разобраться. А вот у нашего ангелочка, как на беду, не было на тельце ни единой, самой малюсенькой крапинки. Видно, только в старину дети рождались сплошь усыпанные родимыми пятнами.
— Опять вы говорите глупости, тетушка Марьяк!
— Глупости? — укоризненно воскликнула экономка. — Конечно, куда уж мне! Ведь я невежественная баба, вдова бедного скорняка. Как я могу сказать что-нибудь умное? Но если все, что вы сказали, правда, чего же вы от меня-то хотите? Ведь все равно я ничем помочь не могу! А если неправда, то почему же вы, ваше превосходительство, считаете, что я говорю глупости?
— Ну, ну, тетушка Марьяк! Вы уж и рассердились! — полушутя упрекнул ее Гёргей, хотя в душе был рад, что вывел экономку из себя.
— Вот тебе и на! Хорошенькое дело! Это я-то сержусь?. Вот она благодарность за то, что я по доброте душевной ни словечка против господ из Топорца не вымолвила.
— Погоди! — сердито крикнул Гёргей. — Я ведь убежден, что если они и поступили так, то все равно из добрых побуждений!
— Конечно! — ухватилась Марьяк за его слова. — Вот именно из добрых! Из каких же еще, господи? Ведь родительская любовь на то их толкнула, — самое благочестивое, богоугодное чувство. И разве можно ожидать от господ из Топорца чего-нибудь иного, кроме добра и благородства? Девочка ой как должна быть благодарна отцу и матери, что они так заботятся о ней. Тем более что зла никому не причиняют: ведь им не пришлось ничего ни вымогать, ни отнимать силой или оружием. Достаточно было всего-навсего сказать: пусть отныне наша дочка назовется Розалией. Разве может это причинить кому-нибудь вред? Никому. А самой девочке — только польза, потому как ей достанется деревня Гёргё с замком, лугами, мельницей и лесами.