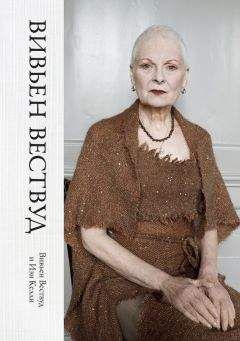Я провел в сумасшедшем доме два года и сотни раз вынужден был выслушивать пояснения моих сторожей: «Вот несчастный, вообразивший себя полковником Шабером!» — и замечания сердобольных посетителей. В конце концов я и сам уверился в неправдоподобности моих злоключений: я смирился, стал тихим, покорным и уже не называл себя полковником Шабером, лишь бы только выбраться на волю, увидеть Францию. О сударь, вновь увидеть Париж! Я был одержим этой…
Не докончив фразы, полковник Шабер впал в глубокое раздумье, которое Дервиль из уважения к своему необычайному просителю не решался прервать.
— Итак, сударь, — продолжал полковник, — в один прекрасный день, в прекрасный весенний день мне вручили десять талеров и выпустили на волю на том основании, что я обо всем рассуждаю вполне здраво и более не называю себя полковником Шабером. И, поверьте, с того дня, да и сейчас еще временами, мне ненавистно мое собственное имя. Я желал бы не быть самим собой. Меня убивает сознание моих прав. О, если бы болезнь унесла с собой память о прежней моей жизни, я был бы счастлив! Я поступил бы под вымышленным именем на военную службу и, кто знает, стал бы, возможно, фельдмаршалом в Австрии или в России!
— Сударь, — сказал поверенный, — я и сам не знаю, что подумать. Я слушал вас как во сне. Умоляю вас, передохнем немного.
— Сударь, вы единственный человек, — с грустью произнес полковник, — который согласился терпеливо выслушать меня. Ни один юрист не пожелал дать мне взаймы десяти наполеондоров, чтобы я мог получить из Германии бумаги, необходимые для ведения дела…
— Какого дела? — спросил Дервиль, который, слушая рассказ своего посетителя о прошлых страданиях, забыл о его теперешнем плачевном положении.
— Как, сударь, разве графиня Ферро не моя жена? У нее тридцать тысяч ливров годовой ренты, моей собственной ренты, а она не хочет дать мне ни гроша. Когда я излагаю все это юристам, то есть людям здравого смысла; когда я, нищий, предлагаю начать дело против графа и графини; когда я, мертвец, восставший из могилы, оспариваю свидетельство о смерти, брачное свидетельство и свидетельство о рождении, законники выпроваживают меня прочь: кто с ледяной вежливостью, которую вы, знатоки права, умеете напускать на себя, чтобы отделаться от назойливого бедняка, кто грубо, как полагается людям, решившим, что перед ними мошенник или безумец. Я был погребен под грудами мертвецов, а ныне я погребен под грудами бумаг, судебных дел; я раздавлен живыми людьми, целым обществом, которое жаждет упрятать меня вновь в могилу.
— Соблаговолите же, — сказал адвокат, — продолжить ваш рассказ.
— «Соблаговолите»!.. — повторил несчастный, схватив за руку молодого юриста. — «Соблаговолите» — вот первое уважительное слово, обращенное ко мне с тех пор, как…
Полковник заплакал. Голос его пресекся от переполнявшей его благодарности. То проникновенное и неизъяснимое красноречие, которое проявляется во взгляде, в жесте, даже в самом молчании, окончательно убедило Дервиля и растрогало его до глубины души.
— Послушайте, — обратился он к своему посетителю, — нынче вечером я выиграл триста франков. Я могу употребить половину этой суммы на доброе дело. Я начну розыски и постараюсь раздобыть бумаги, о которых вы говорили, а пока они не прибудут, буду выдавать вам по сто су на день. Если вы действительно полковник Шабер, вы простите мизерность этой суммы молодому человеку, только еще начинающему свою карьеру. Продолжайте!
Незнакомец, именовавший себя полковником Шабером, несколько секунд сидел в глубоком оцепенении — очевидно, безмерные несчастья вконец разрушили его веру в человека. Если он и стремился вернуть себе свою воинскую славу, свое состояние, свое имя, то, быть может, он действовал, лишь повинуясь тому необъяснимому чувству, росток которого пробивается в каждом сердце и которому мы обязаны изысканиями алхимиков, жаждою славы, открытиями астрономов и физиков — одним словом, всем, что заставляет человека стремиться к величию в своих деяниях и в своих идеях. В глазах такого человека свое собственное «я» — нечто второстепенное, подобно тому, как азартному игроку тщеславное удовлетворение и радость победы дороже самого выигрыша. Слова молодого юриста воскресили этого человека, которого целых десять лет отвергали его собственная жена, правосудие, все общественное устройство. И наконец получить от поверенного десять червонцев, в которых ему отказывали столько времени, столько людей и под столькими предлогами! Полковник напоминал сейчас ту даму, которая, проболев пятнадцать лет лихорадкой, приняла свое выздоровление за какой-то новый недуг. Есть радости, которым больше не веришь: они придут, они сверкнут, как молния, они испепелят. Признательность старика была так сильна, что он не мог выразить ее словами. Поверхностный наблюдатель счел бы его холодным, но Дервиль угадал под этой застывшей оболочкой безграничную честность. Плуту красноречие не изменило бы.
— На чем я остановился? — спросил полковник с наивностью ребенка или солдата, ибо нередко можно обнаружить что-то детское в испытанном воине, и еще чаще в ребенке живет воин, особенно во Франции.
— Вы остановились на том, что вас выпустили из сумасшедшего дома, подсказал поверенный.
— Вы знаете мою жену? — спросил полковник.
— Да, — ответил Дервиль, утвердительно наклонив голову.
— Ну, как она?
— Как всегда, восхитительна.
Старик грустно махнул рукой, — он, казалось, старался подавить терзавшую его тайную муку с той величественной и суровой покорностью судьбе, какая свойственна людям, прошедшим сквозь огонь и кровь сражений.
— Сударь, — произнес он почти весело, ибо несчастный полковник почувствовал, что снова дышит, что он вторично выбрался из могильного рва и растопил слой снега куда более плотный, чем тот, который когда-то обледенил его череп, и теперь он вбирал воздух полной грудью, как выпущенный на свободу узник. — Сударь, — повторил он, — будь я молод, хорош собой, ничего подобного со мной не произошло бы. Женщины верят только тому мужчине, который уснащает свои речи словами любви. Вот тогда-то они начинают суетиться, хлопочут, интригуют, просят, молят, лезут из кожи вон, готовы под присягой подтвердить что угодно, способны черт знает на что ради того, кто им по сердцу. Какой же интерес мог представлять я для женщины? Я был страшнее покойника, в лохмотьях, я больше смахивал на эскимоса, чем на француза, и это я-то, я, слывший в тысяча семьсот девяносто девятом году первым щеголем, я — Шабер, граф Империи!
И вот в тот самый день, когда меня, как собаку, вышвырнули на улицу, я встретил вахмистра своего полка, о котором я вам уже говорил. Звался он Бутен. Этот бедняга да я составляли вдвоем невиданную по красе пару старых кляч. Я встретил его на бульваре и сразу же его признал, а он никак не мог угадать, кто я такой. Мы вместе с ним зашли в кабачок. Когда я назвал себя, он оглушительно захохотал, как будто мортира загремела. Его смех, сударь, причинил мне, пожалуй, одно из самых глубоких огорчений: он открыл мне, и притом без всяких прикрас, как сильно я переменился. Итак, я стал неузнаваем даже в глазах самого скромного, самого признательного своего друга! Некогда я спас жизнь Бутену, отплатив ему этим за такую же услугу. Не буду вам рассказывать, при каких именно обстоятельствах он спас меня от смерти. Произошло это в Италии, в Равенне. Нельзя назвать вполне благопристойным тот дом, где Бутен отвратил от меня предназначавшийся мне удар кинжала. В то время я еще не дослужился до чина полковника, мы с Бутеном были простыми кавалеристами. К счастью, кое-какие подробности этой истории были известны только нам двоим, и когда я ему их напомнил, он заколебался. Потом я рассказал ему о всех приключениях необыкновенной моей жизни. Хотя, по его словам, мои глаза, голос неузнаваемо изменились, хотя у меня не осталось ни волос, ни зубов, ни бровей и я стал белым, как альбинос, все же Бутен после долгого допроса, из которого я вышел с честью, признал наконец в безвестном бродяге своего полковника. Он, в свою очередь, рассказал мне о приключениях, не менее удивительных, чем мои. Бутен побывал у границ Китая, куда он хотел пробраться, бежав из сибирского плена. Он поведал мне о провале похода в Россию и о первом отречении императора. Новость эта сразила меня. Мы были с ним точно два диковинных обломка крушения, и нас пронесло по всему земному шару, подобно тому как в бурю океанская волна перекатывает камешки от берега к берегу. Если посчитать наши с ним странствия, мы повидали Египет, Сирию, Испанию, Россию, Голландию, Германию, Италию, Далмацию, Англию, Китай, Среднюю Азию, Сибирь; только в Индии да в Америке не были… Наконец Бутен, который мог передвигаться свободнее, нежели я, вызвался немедленно отправиться в Париж и сообщить моей жене, в каком положении я очутился. Я написал госпоже Шабер пространное письмо. Четвертое по счету, сударь! Ничего подобного со мной не могло бы случиться, будь у меня родня. Но, надо вам сказать, я бывший питомец сиротского приюта, солдат, единственное достояние коего — мужество, семья — весь мир, родина — Франция, а предстатель и защитник — сам господь бог. Нет, неправда! У меня был родной отец — наш император! О, если бы он был здесь! Если бы увидел он своего Шабера — так он меня называл — в теперешнем моем виде, как бы разгневался он! Да что поделаешь! Закатилось наше солнышко, и всем нам теперь холодно…