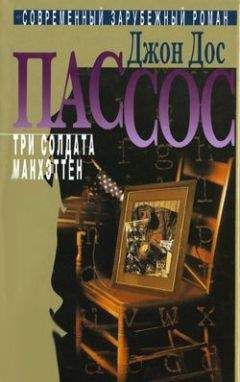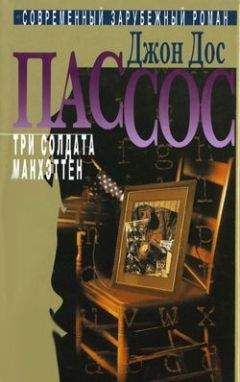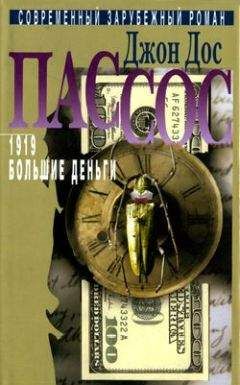– Так тебе тоже хочется поскорее за океан, Крис? – сказал Эндрюс после долгой паузы.
– Я спихну этого гуся Андерсона в море, если нас отправят на одном пароходе, – сказал Крис смеясь, но после паузы прибавил: – Скверно было бы все-таки, если бы я уложил тогда этого парня. Вот уж, по совести говорю, не хотел я этого.
– Да, брат, скрипач – это дело прибыльное, – сказал кто-то.
– Вовсе нет, – раздался меланхолический, тягучий голос из тощего человека, который сидел согнувшись вдвое, положив свое длинное лицо на руку и уперев локти в колени. – Только-только кормит.
Несколько человек толпились в глубине барака. Длинный ряд коек, освещенный случайными слабыми отсветами электрических ламп, тянулся от них к маленькому столику сержанта около дверей. Некоторые уже спали, другие торопливо раздевались.
– Увольняешься, не так ли? – спросил человек с сильным ирландским акцентом и красным лицом веселой гориллы, выдававшим в нем содержателя бара.
– Да, Фланнаган, увольняюсь, – уныло произнес тощий человек.
– Вот уж не везет парню, – раздался голос из толпы.
– Да, не везет, братец, – сказал тощий человек, рассматривая впалыми глазами лица столпившихся вокруг него солдат. – Я должен был бы зарабатывать сорок долларов в неделю, а здесь я едва выколачиваю семь, да к тому же еще служу в армии.
– Да я не про то. Не везет, говорю, что из этой проклятой армии увольняют.
– «Армия, армия, демократическая армия!» – запел кто-то шепотом.
– Ну а я, черт возьми, хочу отправиться за океан гуннов посмотреть, – сказал Фланнаган, ухитрявшийся с необычайным искусством соединять ирландский акцент с говором лондонца.
– За океан, – подхватил тощий человек. – Если бы мне только удалось поехать поучиться за океан, я зарабатывал бы не меньше Кубелика.[8] У меня задатки хорошего скрипача.
– Почему же ты не поедешь? – спросил Эндрюс, стоящий с краю вместе с Фюзелли и Крисом.
– Посмотрите на меня – туберкулез, – сказал тощий человек.
– Просто дождаться не могу, чтобы они переправили меня туда, – сказал Фланнаган.
– Забавно, должно быть, не понимать, что народ кругом говорит. Мне один парень сказывал, что они говорят там «вуй» вместо «да».
– Можно знаками объясняться, – сказал Фланнаган, – ну да ирландца всюду поймут. Зато уж с гуннами беседовать не придется. Черт побери! Как только доберусь туда, сейчас же открою ресторанчик. Что вы на это скажете?
Все рассмеялись.
Недурно будет, а? Вот увидите, открою в Берлине ирландский ресторан. И будь я проклят, если сам английский король не приедет ко мне и не заставит проклятущего кайзера поставить всем выпивку.
– К тому времени кайзера вздернут на телеграфном столбе. Тебе нечего беспокоиться, Фланнаган!
– Его нужно бы замучить до смерти, как негров, когда их линчуют на юге.
Где-то далеко на учебном плацу проиграл горнист, и все молча разошлись по своим койкам. Джон Эндрюс завернулся в одеяло, обещая себе спокойно подумать некоторое время перед сном. Для него сделалось необходимостью лежать таким образом по ночам без сна, чтобы не совсем оборвать нить своей личной жизни – жизни, которую он начнет снова, если сможет пережить все это. Он отогнал мысль о смерти. Она не занимала его и была ему безразлична. Но когда-нибудь в нем снова проснется желание играть на рояле, писать музыку. Он не должен позволять себе слишком глубоко проникаться беспомощной психикой солдата. Ему необходимо сохранить свою волю.
Нет, он не об этом хотел думать сегодня. Он так устал уже от самого себя. Ему нужно во что бы то ни стало забыть о себе. С первого года своего учения в колледже, он, казалось, только и делал, что думал о себе, говорил о себе. Здесь, на дне, в глубочайшем унижении рабства, он сможет, по крайней мере, найти забвение и начать заново возводить здание своей жизни, на этот раз из прочного материала: работы, дружбы и презрения. Презрение – вот чего ему недоставало. В каком грубом фантастическом мире очутился он вдруг! Вся его жизнь до этой недели казалась ему главой, вычитанной из романа, картиной, которую он увидел в витрине магазина – так мало походила она на окружающую его действительность. Полно, да разве могло все это происходить в одном и том же мире? Он, должно быть, умер, сам не зная этого, и родился опять в новом, жалком аду…
Свое детство он провел в разрушенной усадьбе, стоявшей среди старых дубов и каштанов у дороги, по которой лишь изредка проезжали одноколки и запряженные быками телеги, нарушая однообразие песчаных полей, тянувшихся в узорчатой тени. Он так любил мечтать в то время; в длинные виргинские дни, лежа под миртовым кустом на краю запущенного сада, он предавался под сонное жужжание кружившихся на солнце оводов мечтам о мире, в котором он будет жить, когда вырастет. Как много завидных поприщ рисовалось ему! Он будет полководцем, как Цезарь, покорит мир и погибнет от руки убийцы в величественном мраморном зале; или странствующим менестрелем – обойдет с песнями чужие земли, участвуя в бесконечных сложных приключениях; или сделается великим музыкантом: будет сидеть за роялем, как Шопен на гравюре, прекрасные женщины будут рыдать, слушая его, а мужчины с длинными вьющимися волосами закроют руками лица. Одного только рабства он не представлял себе – его раса властвовала для этого слишком много веков. И все же мир покоился на различных видах рабства.
Джон Эндрюс лежал на спине на своей койке, тогда как вокруг него в темном бараке все спали и храпели. Какой-то страх охватил его. В одну неделю величественное здание его романтического мира, с его бесконечным богатством красок и гармонии, пережившее и школу, и колледж, и удары, полученные в борьбе за существование в Нью-Йорке, распалось в прах вокруг него. Он очутился в полной пустоте. «Как глупо, – подумал он, – ведь это тот мир, которым живет большая часть человечества – нижняя половина пирамиды».
Он подумал о своих друзьях, о Фюзелли и Крисфилде, и об этом забавном маленьком человечке, Эйзенштейне. Они чувствовали себя как дома в этой армейской жизни; их, казалось, нисколько не пугала потеря свободы. Но ведь они никогда не жили в другом, сияющем мире. Однако он не мог презирать их за это, как хотел бы. Он представил себе их поющими под управлением христианского юноши:
Ура, ура, все мы в сборе здесь!
Мы кайзера в плен захватим,
Мы кайзера в плен захватим,
Мы кайзера в плен захватим
Разом!
Он вспомнил, как подбирал с Крисфилдрм окурки и беспрерывное «топ-топ-топ» на учебном плацу. В чем была связь между всем этим? Не одно ли тут безумие? Ведь эти спящие вокруг люди собрались сюда из таких различных миров, чтобы слиться в этом дне. Что они думали об этом, все эти спящие? Разве и они не мечтали, как он, когда были мальчиками? Или предшествовавшие поколения подготовили их только к этому? Он вспомнил, как лежал, бывало, под миртовым кустом в знойный, ленивый полдень, следя за тем, как бледные звезды цветов ложатся узором на сухую траву, и снова чувствовал, закутанный в свое теплое одеяло среди всей этой массы спящих, как напрягаются его ноги от жгучего желания понестись, не чувствуя на себе пут, по свежему вольному воздуху. Внезапно тьма заволокла его сознание.
Он проснулся. Снаружи играл горнист.
– Вставай веселее! – кричал сержант.
Еще один день.
Звезды горели очень ярко, когда Фюзелли со слипающимися от сна глазами спотыкаясь вышел из барака. Они трепетали как куски блестящего студня на бархатном фоне неба, точь-в-точь так же, как что-то внутри его трепетало от возбуждения.
– Знает кто-нибудь, где зажигается электричество? – спросил сержант добродушным голосом.
Свет над дверьми барака вспыхнул, осветив маленького веселого человечка с желтыми усиками и незажженной папиросой, болтавшейся в углу рта. Столпившиеся вокруг него солдаты, в шинелях и шляпах, опустили свои ранцы на колени.
– Ну, стройтесь, ребята!
Когда Фюзелли выстроился вместе с остальными, на него со всех сторон устремились любопытные взоры. Он был переведен в роту только в прошлую ночь.
– Смирно! – закричал сержант, затем прищурил глаза и стал сосредоточенно рассматривать клочок бумаги, который держал в руке, в то время как солдаты его роты сочувственно следили за ним.
– Откликайтесь, когда услышите свое имя. Аллан!
– Здесь! – раздался пронзительный голос с конца шеренги.
– Анспах!
– Здесь!
В то же время перед бараками других рот происходили переклички. Откуда-то с конца улицы доносились радостные крики.
– Ну, теперь я могу объявить вам, ребята, – сказал со своим обычным видом спокойного всеведения сержант, назвав последнее имя. – Нас отправляют за океан!
Все возликовали.
– Заткнитесь! Уж не хотите ли вы, чтобы гунны услышали нас?
Солдаты расхохотались, а на круглом лице сержанта расплылась широкая усмешка.